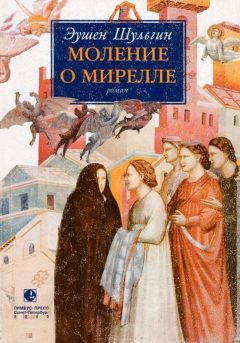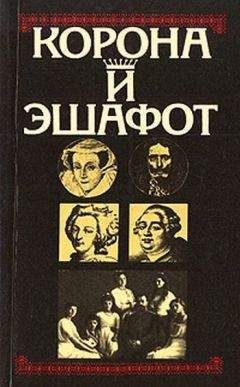Эушен Шульгин - Моление о Мирелле
— О нет, к сожалению, это не имеет никакого отношения к еде. — Мама гладила, гладила меня по голове. Так приятно — и страшно. Я снова увидел отца за столом с пасьянсом, бегающие глазки Берци, красный свет. Лампу прикрыли полотенцем.
«Помнить все!» Кто это сказал, когда? Меня эти слова парализуют. Ампула. Ампула. Рана увеличивается, горит и саднит. «Забыто, забыто, назад не вернется». А это чье? Мое? «Бледное дитя лежит в постели…» Нет, не желаю! Бее вокруг меня кишмя кишит обрывками фраз. Куда идти? Через стену не перелезть. Она ощерилась на меня своими острющими зубами. Но отсюда, с дерева, можно хотя бы заглянуть за нее. Здесь, в самой дальней, нижней части парка, я никогда не бывал. Тут и «бешеные» не страшны.
Но «бешеных» не видно. Вообще ни души. Я сижу на оливковом дереве, почти сливаясь с ним. А внизу — в пансионате — лежит Малыш.
— Фредрик, пойди поиграй на улице!
Dottore Берци был уже у кровати, когда спохватились выставить меня вон. Тетя уехала в Пизу утренним поездом. Мы должны постоянно держать ее в курсе событий. Если потребуется, она приедет. Таков договор.
40,6 с утра пораньше.
Но у детей температура часто зашкаливает. Как жаровня.
Воздух сырой, он холодит лицо. По ту сторону стены: оливковая роща. Виноградники. Вишневый сад. Грядки. Большие листья цвета морской волны. Высокие шапки темно-изумрудных листьев. Обтрепанные фиолетовые листья. Светло-зеленые кисейные веточки. Один, два, три, четыре… двадцать семь кипарисов. Земля. Что сейчас важно? Выздороветь Малышу. Как? К кому идти со своими подношениями?
Мама, у меня ножки сводит!
И как он стискивает пальцы и разжимает, стискивает, стискивает, разжимает. Что-то у меня совершенно мокрая физиономия.
И щекотится в животе.
На дерево за домом забралась туча немецких солдат, в шлемах и со всем, что полагается, и провожали взглядом каждый кусок, что они отправляли в рот.
Я вижу картинку так ясно, точно все это было со мной. Может, было?
— Война, овощей почти не было. Иногда старая картошка да капуста, от которой только болел живот.
— Kardialgi, — сказала тетя. Слово специально для игры. Так откуда это во мне?
Мама встречает меня у трамвая. Весна. Куда ни ступи, всюду бурлят ручейки. Раскисшие дороги. Она простояла на остановке «всю жизнь». Трамвай за трамваем вытряхивали своих пассажиров и семенили дальше. Я чувствую, как у мамы беспокойством сводит живот. Когда я наконец-то появился, мама сдернула меня с сиденья и встряхнула:
— Фредрик, что это такое, где ты был?
Всю дорогу до дома я объяснял, почему я опоздал. «Мам, знаешь, а на самом деле — сейчас я тебе расскажу, крест на пузе, не сойти мне с этого места, так и было». Все новые и новые версии. А как мне еще было выкручиваться? Она молчала, так и не сказала ни слова!
Наш дом сдали. В детской, в кроватке Малыша, резвятся отпрыски квартирантов. Наверно, там снег выпал. Да, снег наверняка уж лег.
Я вытянул руку, и первые редкие снежинки пощекотали ладошку, точно снег провел перышком. Я снял жокейку — она оказалась белой. Затылок уперся в чешуйчатую кожу ствола. Искрящаяся снежная пудра, оседающая на холмах под Сан-Джимигнано, священник, скрючившийся, семенит куда-то весь в черном…
Синьора Касадео нашлась наверху, в своей комнате. Увидев меня, хлюпнула носом. Из меховой горы торчало только бледное лицо и пальцы. Она ушла в работу с головой. Впилась в нее. Вокруг нее на полу три, четыре, пять подносов с раскаленными углями. Таращатся своими горящими глазами.
— Федерико, бедняжечка, — запричитала она, и в груди у меня все закаменело.
— Как дела? Как дела? Несчастный малютка Ленико! Ох-хо-хох.
Мелькала взад-вперед игла, из глаз текло. Струились рыжие волосы, перекатывались через меховой порожек и текли вниз по спине.
— У меня аллергия на мех, настоящая, — как-то обронила синьора. — Посмотри, глаза вечно слезятся. Я их и промывала, и смазывала, все без толку. Ну не смех? Скорняк, а на мех аллергия!
— Знаем мы, на кого у нее аллергия, — язвил отец. Попугайчики мерзли в своей клетке.
— Федерико, иди сюда, — позвала Анна-Мария. Дверь в ее комнату полуоткрыта. У нее такой вид, точно она поджидала меня. Среди вороха шелка и кружев, в нимбе солнечного света. Одно бедро выдалось вперед, плечо оголилось. Сахарные губки облипли круглую конфетку. Она протянула мне коробку.
— Иди, иди, amore mio, поешь шоколадку. — Но за стеной заплакал Малыш.
В вестибюле — синьоры Малеоноцци и Браццаоло. Обе квохчут, бьют крыльями, стараясь удержать меня, — охота свеженьких новостей.
— Бедный, бедный Федерико. — А лица скорбят о предстоящей утрате. Изголодавшись, они жаждали утвердиться в своих худших опасениях. В дверях своих покоев возникла patrona.
Я сбежал в парк.
Я нарисую все, как запомнил. Проведу карандашом и — как знать — возьму и сотру.
Поверх эвкалиптовых крон читается крыша Зингони. Затирать можно и финиковой метелкой. И снег мне на подмогу. Он припорошил все дороги сюда. Как по заказу — старается изо всех сил. Ему солоно приходится тут, он здесь новенький. Но, мне кажется, выходит неплохо. Давай, снежок, забивайся во все закоулки, затуши все. И жар…
Вещь за вещью я скидываю все свое на землю: шарф, куртка, свитер, рубашка, ботинки, носки, штаны, майка, теплые подштанники. Сижу на сучке в одних трусах, на голове тарелкой пластается жокейка. Снег плющится о кожу, течет по мне. Зажмурился и стиснул зубы, чтоб не знобиться. Ну что, добились своего?
Качает. Взад-вперед, взад-вперед. Надо ж — так — замерзнуть! Дерево дрожит и трясется, земля под ним ходит ходуном с ним вместе, ветки закручиваются, закручиваются и отрываются, тычутся и растворяются, что-то колется, щекочется — оно жесткое и мокрое-премокрое, вода. Что происходит? В меня вцепилось дерево. Да врешь! Нет, правда, что-то вливается в меня, волочит, меня несут. Значит, меня нашли.
— Они меня скинули, — захныкал я и закрыл глаза.
В ответ утробный, бессловесный рык и тошнотворная вонь. Смесь пота, мочи, блевотины — и чеснока.
— Чего пристаете? — обиделся я. Открыл глаза и уперся в кустистую растительность. Из нее высверливались круглые, шалые глаза. Знаем, знаем это бред. Хотел горячку — и получил. И не мерзнешь ты, а пылаешь.
— Жар! Не уймусь, пока не дотру до жара!
Я застонал, все тело жжет и ломит. Всполохами мелькнули горшки, корыто, и все опять заволокло полотенце. Лаура терла меня изо всех сил. Их было немало.
— Ой, ой!
— Наберись терпения, мальчик мой. И если тебе сегодня не надерут уши, ангел тебя хранил. Видела б тебя матушка, когда он тебя притащил, — Дева Мария, Матерь Божья, что за негодник! — Лаура квохтала и массировала нещадно… — Нет, скажи, Федерико, ты что, дурнулся? Это не шутка. Спустить бы с тебя штаны да отодрать, как Бог драл черепаху. Ты хоть что соображаешь? Бедная твоя мама. Мало ей забот с Лео, крошка моя, так мучается. Но какие вы оба были, чистый цирк! Я уж года не видела, чтоб он так переживал. Он взаправду тужился что-то сказать, паралитик-то, глаза из орбит вылезли, и пришаркал прямо сюда, ко мне. А ты болтаешься у него на плече, укутанный в мешок, точно Божий человек, и голова, как на ниточке, туда-сюда, туда-сюда. — И Лаура потрепала меня из стороны в сторону.
— Не поверишь, он впервые отважился зайти в кухню! Джуглио, недоносок чертов, так спешил, что даже забыл материться. Он так бережно-бережно спустил тебя с плеч. И с таким озабоченным видом выковыривал твои одежки из мешка. Как ты объяснишь маме, почему все пропахло грибами? Я не могу отстирать и высушить все раньше утра. Одна надежда, что бедной твоей матери сейчас совсем не до того. Нет, честно, Федерико, что это ты затеял? А? Ну-ка расскажи все старой Лауре, да?
— …
— Не хочешь — не надо. Да уж, бедолага. Ну хоть поесть успел, прежде чем Джуглио его погнал, и бутылочку с собой прихватил. Джуглио не пикнет, вот посмотришь. Я ему так и врезала: заикнешься его родителям — я тебе все поотрываю, даю слово. А он осклабился: мол, ежели здесь не будут отсвечивать рожи твои да этого полоумка, то он от такой радости не то что язык прикусит. Они ему тарелки супа жалеют, фашисты проклятые. Все они одним миром мазаны. Ну, как? Обштопали мы с тобой простуду, да? — Она наконец-то угомонилась. Отступив на шаг, изучила меня, посмеиваясь и качая головой:
— Молочный поросенок, да и только. Свеженький, с пылу с жару. Розовый, румяный свиненок! — Она выскользнула из кухни, и я остался один.
Я потрогал руками голову. Она распухла вдвое против обычного. И еще осталась жарища. Мне хотелось только в голос завыть. Все было беспросветно.
На веревке у очага сушилась моя одежда, над необхватными котлами стоял пар. Бульоном пропахло в комнате все. Бог мой, как же зверски я оголодал! На стуле у двери развалился огромный котяра, он лежал, вытянув лапы вперед, и не сводил с меня желтых стеклянных кругляшек глаз, готовый в любой момент дать деру. Сбечь… Я оглянулся. С чего мне сейчас подумалось про Мозг? Кабы я решился пробраться туда сейчас. И узнать — все? Нет, невозможно. Как только я представил себе синьору Зингони, так тут же распрощался с надеждой. А кстати, не ее ли кот? Тот тоже был тигровой масти. Может, он шпионит за мной. La patrona прибегает, верно, к услугам и таких осведомителей. Дом, коты, домашние кошки — неужто все они только глаза и уши? Спокойно, Федерико, сколько тебе лет? Расслабься!