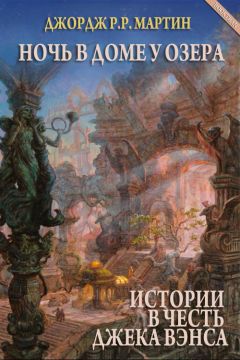Зинаида Чиркова - Граф Никита Панин
В ужасе и смятении суетились вокруг ширм люди, охали и ахали фрейлины, сумрачно размышляли о будущем высшие придворные чины, которых забрала с собою из Петербурга государыня. У всех на уме только один вопрос: конец это или нет? И что будет? Каждый дрожал за свое место, каждый думал, куда бежать, к кому подольститься…
Александр Иванович храбро распоряжался, но и у него захолонуло сердце — а ну как это конец? Тогда на престол взойдет Петр, а Александр Иванович не всегда бывал с ним любезен. Вот уж когда отольются кошке мышкины слезы…
Фюзадье сначала долго размышлял, приоткрывая императрице веки, слушал сердце, прижав ухо к августейшей груди, наконец, решил, что самое важное дело — пустить кровь. В XVIII веке от всех болезней пускали кровь — это действительно давало облегчение в некоторых случаях. Но здесь, верно, был другой случай. Кровь капала из ноги в подставленный медный таз густая, тяжелая и сразу же застывала.
Но облегчения не последовало. Елизавета все не открывала глаз, хотя дыхание с хрипом вырывалось из горла.
Не помогало ничего — ни кислая вода, приложенная к вискам, ни нюхательная соль, ни смоченное мокрое полотенце, возложенное на лоб. Никто не знал, что делать дальше. Даже Александр Иванович, сразу же взявший бразды правления в свои руки, бестолково бегал туда-сюда, дергая теперь уже всей правой половиной лица.
Пришел священник, отслужив службу при пустом храме — все прихожане высыпали на улицу и стояли в отдалении от ширм, за которыми укрыли тело государыни.
Маша и Анна с ужасом смотрели на всю эту суету. Впервые они видели обморок такой продолжительности, впервые видели, как стали потихоньку исчезать некоторые придворные, спешившие сообщить весть о болезни императрицы в Петербург, знакомым, родным.
Почти два часа старался Фюзадье привести Елизавету в чувство, но ничто не помогало.
Наконец, он распорядился положить ее на кушетку и отнести во дворец.
У постели императрицы собрались те немногие, которым не грозила опала нового государя, буде он появится. Государыня лежала недвижимо, и только крохотная голубая жилка на шее свидетельствовала, что она еще жива. Она билась ритмично и медленно…
К ночи веки Елизаветы медленно поднялись. Мутный взгляд постепенно становился все более осмысленным, наконец, она повернулась на своем ложе.
Взгляд ее остановился на Александре Ивановиче, и она знаками показала ему на рот. Говорить не могла — прикусила язык…
Тотчас принесли лекарственные отвары, Фюзадье попробовал их из августейшей чаши и поднес императрице. Она рукой оттолкнула чашку и глазами показала на штоф с квасом, всегда стоявший в ее опочивальне. Фюзадье в ужасе замахал руками, замотал головой, но Александр Иванович уже наливал квас.
Придерживая чашку, он поднес ее ко рту императрицы, и она с удовольствием сделала несколько глотков… После этого опять закрыла глаза и погрузилась не то в сон, не то в беспамятство.
На другой день вызвали Кондоиди, он прискакал на третий день и неотлучно находился у постели больной почти целую неделю. Она то приходила в себя, то снова теряла сознание.
Курьеры поскакали из Петербурга в действующую армию, курьеры повезли депеши в иностранные государства.
Императрица выздоровела, но последствия ее обморока и болезни были самые тяжелые.
На престол в случае смерти Елизаветы восходил Петр III. Но политика этих двух людей была совершенно противоположной. Елизавета вела Семилетнюю войну против Пруссии в союзе с Австрией. А для Петра Фридрих II, прусский король, стал идеалом. Ему поклонялся голштинский принц, считал за счастье служить в его армии хотя бы капралом.
И результат обморока Елизаветы не замедлил сказаться на военных действиях.
Русская армия под командованием Апраксина перешла через Прегель и двинулась к Кенигсбергу в начале августа, почти за месяц до злополучного происшествия с Елизаветой. 18 августа русские войска вошли в лес под местечком Гросс-Егерсдорф. Узкие, почти непроходимые дороги не давали войскам возможность выстроиться. Целую ночь солдаты были под ружьем и на рассвете собирались двинуться в путь, чтобы окружить врага.
Но они не успели этого сделать. Трубач пруссаков, уже вышедших из Коркиттенского леса и построенных в боевой порядок, заиграл атаку. Генерал Фридриха II Левальдт застал Апраксина врасплох во время опасного и сложного маневра.
Смятение, вопли, крики, беспорядок начались в русских войсках. Правильная атака пруссаков и залпы артиллерии превратили войско в беспорядочную толпу. В несколько минут были перебиты Нарвский и второй Гренадерский полки, убит генерал Зыбин, а смертельно раненый Лопухин, тоже генерал, попал в плен.
Русские дрогнули и были отброшены к лесу. Казалось, что поражение неизбежно. Но тут произошло то, что поражает и поражало всех военных историков. Через лес, по болотам, считавшимся непроходимыми, примчался на поле сражения третий Новгородский полк и ударил в штыки. Вел его молодой Румянцев. Он выступил самостоятельно, Апраксин, потерявший голову от страха, перестал командовать. Еще четыре полка, остававшиеся в арьергарде, по собственному почину выступили на поле сражения. Они ударили с такой стремительностью и с таким жаром, что Левальдту ничего не оставалось, как скомандовать отступление и открыть русским дорогу на Кенигсберг.
Все расчеты Фридриха, не принимавшего всерьез русскую армию, были разбиты. Теперь Апраксину ничего не стоило через завоеванную им Восточную Пруссию соединиться со шведами, которые уже находились в Померании, и вместе с ними появиться под стенами Берлина.
Подвинувшись вперед, через несколько недель Апраксин отступил и перешел за Неман.
В конце сентября Елизавета окончательно встала на ноги, и Апраксин был не только смещен с должности главнокомандующего, но и попал под следствие. Елизавета поняла, чьим письмам обязана Пруссия своим спасением. Апраксин скончался во время первого же допроса, но Елизавета призвала к ответу великую княгиню Екатерину Алексеевну. Та писала Апраксину в армию, и только уничтоженные письма не позволили Елизавете судить ее за государственную измену.
Конечно, ни Машенька, ни Аннушка не знали обо всех этих хитростях, но они видели, как день ото дня все более мрачной и замкнутой становится императрица.
А потом по всему двору разнесся слух — арестован канцлер Бестужев. Французский посол в Петербурге маркиз Лопиталь так писал Людовику XV обо всех интригах молодого двора и Бестужева:
«Первый министр нашел средство соблазнить великого князя и великую княгиню настолько, что они убедили генерала Апраксина не действовать так быстро, как то приказывала императрица. Эти интриги велись на глазах императрицы. Но, так как ее здоровье тогда было очень плохо, она только о нем и думала, между тем как весь двор поддавался желаниям великого князя и в особенности великой княгини, вовлеченной в дело ловкостью Вильямса (английский посол) и английскими деньгами, которые этот посол передавал ей через посредство Бернарди, своего ювелира, признавшегося во всем. Великая княгиня имела неосторожность, если не сказать смелость, написать генералу Апраксину письмо, в котором освобождала его от данной ей клятвы удерживать армию и разрешала привести ее в действие. Г. Бестужев показал однажды это письмо в оригинале г. Быкову, уполномоченному императрицы-королевы (Марии-Терезии), приехавшему в Петербург с целью поторопить операции русской армии. Тогда тот почел своим долгом доложить об том графу Воронцову, камергеру Шувалову и графу Эстергази (представителю венского двора). Это был первый шаг, повлекший за собой падение Бестужева».
Однако дело было даже не в этом. Враги канцлера проведали, что у Бестужева имеется манифест, составленный канцлером, о привлечении Екатерины к управлению империей. Они-то и внушили Елизавете, что в бумагах канцлера непременно найдется что-то, касающееся ее безопасности. Это и склонило царицу к окончательному решению — арестовать Бестужева.
Екатерина замерла в ужасе. Но Бестужев даже из-под ареста нашел способ успокоить свою сообщницу — он написал ей записку, переданную верным человеком, что манифест о ее восшествии на престол сожжен. И великая княгиня успокоилась. Следующим же днем, встретив высокопоставленных чиновников, которым поручалось вести следствие по делу Бестужева, графа Шувалова, графа Бутурлина и князя Трубецкого на балу по случаю помолвки Льва Нарышкина, она весело спросила:
— Что значат эти милые слухи, дошедшие до меня?
Голос ее не дрогнул, она задала свой вопрос весело и непринужденно.
— Нашли ли вы более преступлений, чем преступников, или больше преступников, чем преступлений?
Они что-то бормотали в ответ, а граф Бутурлин просто ответил: