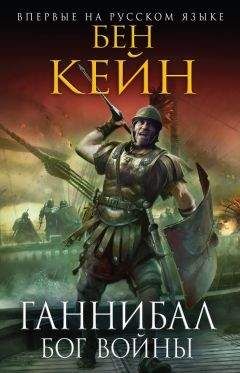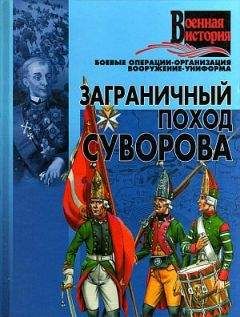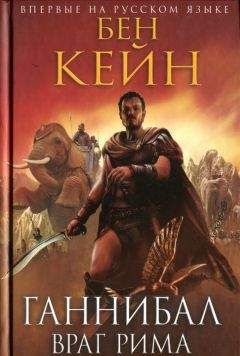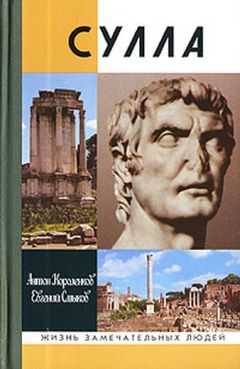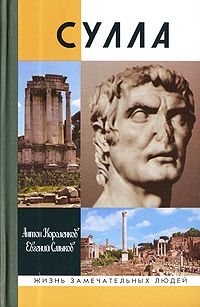Август Шеноа - Крестьянское восстание
Настала пасха, праздник искупления, воскресение сына божьего, воскресение всей природы. По горам разносится чистый звон колоколов церкви Верхней Стубицы, которая стоит на площади, посреди села, у подножья укрепленного замка. Среди молодой зелени белеют одежды хорватских крестьян, горят красные платки и кораллы. Стар и млад, мужчины и женщины спешат в церковь, из которой несутся радостные звуки.
Радостные ли? Из большого органа льются не райские мелодии, а море звуков, подобное буре; медный колокол звучит не как ангельский голос, но как похоронный звон. Господин Тахи приказал всем домохозяевам по окончании службы божией собраться и сдать ключи от своих винных погребов. Сусед и Брдовец разграблены, теперь пришел черед Стубицы. Управляющий Грдак говорит: не отдавать ключей, а Тахи говорит, что, кто не отдаст, тому голову долой. Стубичанин тверд, поднимает голову и говорит: «Не дам!» И Тахи тверд: сидит в своем замке, поднимает голову и говорит: «Должен отдать!» Народу собралось множество; мужчины мрачно смотрят прямо перед собой, а женщины молятся, плачут, вздыхают. В углу, рядом с матерью, стоит на коленях и Матия Губец. Тихо замирает последнее «Аллилуйя!». Поп благословляет народ, орган замолкает. Богослужение окончилось, но народ продолжает стоять на коленях и не расходится. Перед храмом, на коне, сидит Тахи и в нетерпеливом ожидании пощипывает бороду. Конь беспокойно перебирает ногами, а сердце Тахи тоже бьется неспокойно. На площади выстраивается отряд штирийских мушкетеров из Штетенберга, на их ружьях торчат шомпола.
– Ну, скоро ли конец поповским проповедям? – кричит Тахи.
Петар Бошняк докладывает, что народ не выходит из церкви.
– Хорошо. Мушкетеры, вперед! Выгоняйте собак из святой дыры!
Мушкетеры бросаются к церковным дверям. Тяжелые шаги вооруженных солдат гулко раздаются по церкви, под высокими сводами слышатся причитания и стоны.
– О господи, помоги! Исусе, спаси нас! – вопят женщины и дети, а мужчины скрежещут зубами. Бледный стоит перед алтарем поп, воздев кверху сложенные руки. Раздается ропот; прикладами, кулаками, бранью и проклятьями мушкетеры гонят мужчин на улицу, как скотину, гонят беззащитных людей из божьего храма; за мужчинами, плача, причитая, толпятся бледные, напуганные женщины, а священник склоняется перед алтарем, и из его глаз на холодный камень текут слезы. Перед церковными дверьми часовые скрестили копья; на площади – целый отряд солдат, и перед ним мечется в отчаянии перепуганный народ. Барон Штетенбергский высоко поднял голову и крикнул:
– Э, собаки! Слышали приказ? Отдать ключи! Ты, Лолич, записывай имена.
Тогда перед Тахи выступил высокий седой старик с широким лицом и живыми глазами – старейшина Мийо из Голубовца – и, положив руку на сердце, спокойно сказал:
– Королю мы даем то, что принадлежит королю, господину – что принадлежит господину, но то, что наше, – того мы не дадим!
– Вы отдадите ключи? – проскрипел Тахи.
– Не дадим, как бог свят! – закричал Губец, поднимая руку, в то время как мать схватила его за плечи.
– Не дадим! Не дадим! – раздался отчаянный крик всей толпы.
– Эй, люди! – заорал Тахи, погнав коня к своему отряду. – Огонь, стреляйте в собак!
Толпа дрогнула, раздались выстрелы. Дым, пламя, гром! «Ой, Исусе!» – поднялся к небу страшный вопль. Толпа рассеялась. Тут падает парень, там шатается женщина, старик, схватившись за сердце, качается из стороны в сторону, корчится смертельно раненный ребенок. Льется кровь, льется невинная кровь, льется на несчастную землю, перед лицом божьим в светлый день пасхи! Солдаты разъярились – бьют, дубасят, грабят; народ бежит. Прикладом раздробили голову старику Михаиле, а Губец, раненный, падает на руки матери. Тахи же приподнялся на стременах, рот его скривился в отвратительную улыбку, глаза горят, как у злой гадюки. Радостно взирает он на это побоище, где жена обнимает мертвого мужа, где мать подбирает убитого ребенка, где люди рвут на себе волосы и бьют себя в грудь; он ничего не слышит, ничего не чувствует. Он врывается в толпу, подскакивает к церковным дверям, куда старушка мать увела Губца, и замахивается саблей. Но старуха выпрямляется перед ним, как львица, и, глядя на него в упор глазами, полными слез, говорит:
– Бей!
– Прочь, старая! – зарычал Тахи и снова замахнулся…
Но в это мгновение из церкви вышел священник и, Держа высоко перед собой серебряное распятие, воскликнул:
– На сем камне созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее!
Изверг вздрогнул, опустил руку, в бешенстве повернул коня и поскакал в замок. Тогда появился поджупан Джюро Рашкай, спешно приехавший из Загреба по вызову Степана Грдака, и от имени бана объявил, чтоб ни одного волоса никто не смел тронуть на голове у крестьян.
Пасха. Грустно плачет погребальный звон; в церкви Стубицы лежат тела крестьян, а около них на коленях стоит священник и молится за невинные души, в то время как в горах разносится стон вдов и плач осиротелых детей.
На третий день пасхи перед алтарем брдовацкой церкви стояли на коленях трое крестьян; один был из Стубицы, другой из Суседа, третий из Брдовца.
– Детушки! – сказал священник Бабич, перекрестив их. – Да благословит и да защитит вас бог! Я написал в письме о всех ваших страданиях. Несите его перед светлое лицо его королевской милости и откройте ему душу. Пусть король вам поможет, – это ваша единственная надежда. А ты, боже праведный, просвети сердце государя!
19
Стоит прекрасное лето, а в крае царит могильная тишина. Кровь мучеников запеклась перед стубицкой церковью; крестьянские выборные вернулись из дворца, где им было сказано, что король сделает все необходимое. Крестьяне забились по углам, молчат, едва смеют дышать. Тахи – владыка, Тахи силен! Необыкновенные дни наступили в замке Сусед. От госпожи Елены осталась одпа тень. Она, больная, мечется на своей постели, под портретом Доры Арландовой. Лицо горит в смертельном жару, она вращает глазами и сжимает зубы, боясь, что душа ее улетит, боясь, что не успеет отомстить неверному мужу. Она все узнала. Смерть приковала ее к постели, холодный предсмертный пот покрывает ее бледный лоб, а Тахи в это время греется на пышной груди молодой развратницы. «Ох, только бы жить, жить!» – вздыхает Елена. Напрасно! Смерть тянет ее в могилу, ревность удерживает на пороге. Она мечется в отчаянии, молит, клянет, плачет, вздыхает: «Жить! Шить!» Но какое до всего этого дело Тахи? Драшкович ему ласково улыбается, Баторий его защищает; до царя далеко, до бога высоко. Тахи смеется и пьет, смеется, когда его, сумасбродного старика, целует в морщинистое лицо красивая развратница; смеется и тогда, когда крестьянин качается на виселице. В открытое окно луна льет свой трепетный голубой свет. Эй, луна! Видишь ли ты белую, пухленькую руку кастелянши? Словно змея, обвилась она вокруг шеи старика. Эх! Как она его обнимает, как целует, как ее черные распущенные волосы падают на стариковские седины, как она складывает губки, как глаза замирают от страсти, как ее дыхание жжет и распаляет! А старик, покоясь на груди кастелянши, хохочет и пальцем показывает в окно, на холм.
– Видишь, душенька, – кричит он, – там, в лунном свете, что-то качается на дереве? Это собака крестьянин. Он тебя обозвал потаскухой, вот теперь и висит. Ха, ха, ха! Погляди-ка! Вороны кружатся над ним. За ваше здоровье, черные приятели! – воскликнул Тахи, вскочил и осушил кружку вина.
II он целует и обнимает ее, а развратница хохочет. Вороны каркают!.. Голубой лунный свет дрожит на лице госпожи Елены и на портрете Доры. Женщина приподнимается, открывает рот и поворачивает бледное лицо в сторону луны. Слушай, Елена, слушай! Вороны каркают! Смерть идет, смерть! А Тахи? Где он?… Целуется… Позор!.. Тахи целуется… Елена умирает…
К замку подскакал незнакомец из Загреба.
– Где хозяин? – спросил он слугу.
– Не знаю, – ответил вышедший к воротам Петар Бошняк.
– Гм, наверно, изображает из себя кастеляна Лолича, – усмехнулся тихо Дрмачич, выходя вслед за Бошняком, с которым он играл в кости.
– Проводите меня немедленно к нему! Именем короля! – проговорил незнакомец.
Петар зажег лучину, повел его к покоям кастеляна и постучал в дверь. Выскочил Тахи.
– Кто смеет беспокоить меня в такой поздний час? – закричал он, гневно посмотрев на незнакомца.
– Homo regius,[68] – ответил тот. – Вы вельможный господин Фране Тахи, главный конюший короля?
– Да, – ответил Тахи с удивлением.
– Вот вам письмо, запечатанное большой печатью, от королевского прокурора Блажа Хазафи.
– От королевского прокурора? Что ему от меня надо?
– Прочтите сами! Протайте! – сказал незнакомец и ушел.
Тахи вырвал из рук слуги лучину, быстро вошел обратно в комнату, распечатал письмо и принялся, дрожа и бледнея, читать.
– Бога ради, что случилось? – взвизгнула потаскуха.