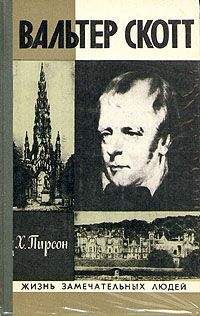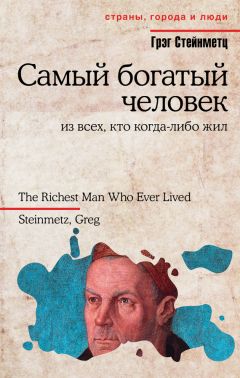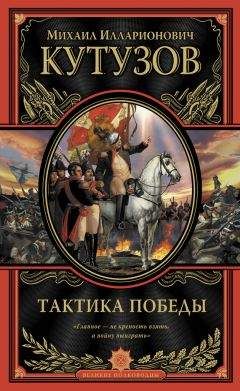Хескет Пирсон - Диккенс
По приезде домой он узнал, что «Американские заметки» расходятся очень бойко. Однако сегодня их помнят лишь потому, что на них стоит его имя. Если бы эта книга была написана кем-нибудь другим, она не пережила бы своей эпохи. «Хвалить ее я не могу, а ругать не хочется», — так писал Маколей редактору «Эдинбургского обозрения», объяснив свой отказ разбранить эту книгу еще и тем, что «был гостем в доме Диккенса» и считает его «хорошим и по-настоящему талантливым человеком». Эмерсон считал «Записки» «грубейшим пасквилем», книгой поверхностной и невежественной. Не многим американцам она пришлась по душе, и не удивительно. Автор занял позицию цивилизованного туриста, попавшего в страну варваров, и беззлобный тон его книги только подливает масла в огонь. Впрочем, не прошло и года, как он начал писать новый роман, нарисовав такую картину жизни в Соединенных Штатах, которую даже самые снисходительные из американских критиков не могли бы назвать беззлобной. С выходом этой книги насмешливое неодобрение, встретившее путевые заметки, сменилось ревом ярости.
«Как часто человек бывает связан с орудием своей пытки и не может уйти, — писал Диккенс своему другу, — но немногим дано изведать ту муку и горечь, на которую обречен каждый, кто прикован к перу». Сначала «Мартин Чезлвит» двигался мучительно трудно. Много дней подряд писатель проводил у себя в комнате и, не написав ни строчки, выходил оттуда «до того злой и угрюмый, что самые отчаянные и те убегают при виде меня... Издатели всегда являются ко мне по двое, дабы я не мог напасть на дерзновенного одиночку и лишить жизни назойливое существо». Никаких приглашений он не принимал, потому что «с каждым днем у меня все больше оснований для стойкого, но не слишком уютного чувства, что из тьмы моего одиночества может произрасти нечто комическое (или, во всяком случае, рассчитанное на комический эффект)». Первый выпуск романа появился в январе 1843 года, последний — в июле 1844-го. За исключением миссис Гэмп, под видом которой автор изобразил повивальную бабку, встреченную им в доме мисс Куттс, внимание читателя в этой книге привлекают главным образом сцены американской жизни, которым он посвятил ярчайшие сатирические страницы, когда-либо написанные на английском языке. Американцы, естественно, сочли их самой злостной клеветой, когда-либо написанной человеком. «Написать на этот народец настоящую карикатуру невозможно, — заявил Диккенс. — Порою, прочитав какой-нибудь отрывок, я в отчаянии бросаю перо — мне не угнаться за моими воспоминаниями». Соотечественники Джорджа Вашингтона выставлены в «Мартине Чезлвите» на осмеяние как снобы[103], лицемеры, лжецы, скучнейшие болтуны, хвастуны и пустозвоны, задиры, хамы, дикари, подлецы, убийцы и идиоты. Автор обвиняет их в грубости, скупости, завистливости, нечистоплотности, алчности, беспомощности, невежестве, претенциозности и порочности и заявляет, что в общественных своих привычках они недалеко ушли от животных, а в политических делах испорчены и развращены. Поэтому не многие американцы встретили книгу с распростертыми объятиями, и к приходу корабля со свежими номерами романа уж не сбегались восторженные толпы, жаждущие услышать новости о мистере Джефферсоне Брике или миссис Хомини. Самым оскорбительным казалось именно то, что было чистейшей правдой, как, например, такие язвительные высказывания:
«Они так страстно любят Свободу, что позволяют себе весьма свободно обращаться с нею».
«Так и чудится, что все их заботы, надежды, радости, привязанности, добродетели и дружеские отношения переплавлены в доллары».
О рабстве:
«Так звездочки перемигиваются с кровавыми полосами, и Свобода, натянув колпак на глаза, называет своей сестрою самую гнусную неволю».
Что касается республики в целом, то она, по словам Диккенса, «так искалечена и изуродована, покрыта такими язвами и гнойниками, так оскорбляет взор и ранит чувство, что даже лучшие друзья гадливо отворачиваются от этой мерзкой твари».
Но все-таки, быть может, стоило съездить в Америку и вернуться домой, твердо зная, что «у хитрости простоты не меньше, чем у невинности, и там, где в основе простодушия лежит горячая вера в плутовство и подлость, мистер Джонас неизменно оказывался самым доверчивым из людей».
Когда Марк Тэпли позволяет себе по-дружески высказать несколько критических замечаний по поводу местных порядков, мистер Ганнибал Чоллоп предостерегает его:
«Умник, вроде вас, долго не протянет. Всего продырявят пулями, живого места не оставят.
— За что же это? — поинтересовался Марк.
— Нас нужно восхвалять, сэр, — ответствовал Чоллоп угрожающе. — Вы здесь не в какой-нибудь деспотии. Мы служим образцом для всей земли, и нас следует просто-напросто превозносить, ясно?
— Да неужели я говорил слишком вольно? — вскричал Марк.
— Мне и не за эдакие слова кое-кого случалось прихлопнуть, — насупившись, произнес Чоллоп. — Смельчаки, а удирали куда глаза глядят, и ведь такого себе не позволяли. Да за одно такое слово культурные люди в порошок разотрут, линчуют. Мы ум и совесть всей земли, мы сливки человечества, его краса и гордость. Мы народ вспыльчивый. Уж если мы когти покажем — берегись, понятно? Вы уж нас лучше похваливайте, так-то».
Впрочем, со времен Диккенса Америка ушла далеко вперед, и теперь ей едва ли нужно, чтобы кто-то посторонний «похваливал» ее.
Подобно Квилпу и маленькой Нелл, «Мартин Чезлвит» вызывает сегодня иное чувство, чем во времена Диккенса. Тогда симпатии были на стороне Тома Пинча, а Пексниф вызывал отвращение. В наши дни Том Пинч кажется несносным, Пексниф же доставляет нам массу удовольствия — это одна из самых курьезных фигур в литературе. «Ах, уж эта мне человеческая натура! Злосчастная натура человеческая!» — заметил мистер Пексниф, сокрушенно покачав головой, как будто он сам не имел к человеческой натуре ни малейшего отношения. И хотя Пексниф — персонаж пародийный, в нем столько этой самой «человеческой натуры», что мы в конце концов предпочитаем его всем героям-паинькам. Здесь снова повторилась та же история, что и с Квилпом: Диккенс безотчетно наделил Пекснифа очень многими особенностями самого себя. Так же бессознательно вложил он в «Мартина Чезлвита» и еще кое-что, вероятно немало озадачив тех читателей, которые считают, что литературное произведение никак не связано с личностью автора. В пятидесятой главе Мартин упрекает своего друга Тома Пинча в вероломстве, и неизвестно почему: Мартин ни слова не говорит о том, какой поступок друга послужил поводом для этих упреков. Не упоминает он об этом и в дальнейшем. Эта сцена — совершенно лишняя в повествовании, смысл ее так и остается неясным. Разгадка же такова: устами Тома и Мартина здесь говорит сам Диккенс, этот эпизод — отражение тех душевных переживаний, которые он в то время испытал.
26 февраля 1844 года Чарльз Диккенс открыл вечер Ливерпульской школы для рабочих. Объявив собравшимся, что сейчас перед ними выступит пианистка, он добавил, что произносит ее фамилию с особым и нежным чувством: мисс Уэллер8. Взрыв хохота, которыми были встречены эти слова, совсем было сконфузил мисс Уэллер, но Диккенс шепнул ей, что когда-нибудь, он надеется, она переменит фамилию и будет очень счастлива. Один лишь вид этой девушки, напомнившей ему Мэри Хогарт, произвел на Диккенса необычайное впечатление. Он вновь почувствовал, как мучительно ему не хватает духовной близости и сочувствия женщины, понимающей его и живущей им одним; им вновь овладела тоска по идеальной любви. На другой же день он пригласил мисс Уэллер и ее отца к завтраку и познакомил со своим другом Т. Дж. Томпсоном, с которым в дальнейшем надеялся беседовать и переписываться об этом интересном для него предмете. Из Бирмингема, куда он отправился, чтобы председательствовать на вечере Политехнического института, он писал Томпсону: «Я не могу говорить о мисс Уэллер в шутливом тоне: она слишком хороша. Интерес, пробудившийся во мне к этому созданию — такому юному и, боюсь, осужденному на раннюю смерть, перешел в серьезное чувство. Боже, каким безумцем сочли бы меня, если бы кто-нибудь смог разгадать, какое удивительное чувство внушила она мне!» Дня через два он написал своей сестре Фанни: «Не знаю, но, кажется, если бы не воспоминания о мисс Уэллер (хотя и в них кроется немало терзаний), я бы тихонько и с большим удовольствием повесился, чтобы не жить больше в этом суетном, вздорном, сумасшедшем, неустроенном и ни на что не похожем мире». Он послал мисс Уэллер томик стихотворений Теннисона, подаренный ему самим поэтом, и написал ее отцу о ее необыкновенных душевных качествах. 11 марта, через двенадцать дней после того, как Диккенс познакомил ее с Т. Дж. Томпсоном, он узнал, что его друг влюблен в мисс Уэллер и хочет на ней жениться. «Клянусь, когда я вскрыл сегодня утром Ваше письмо и прочел его, — писал Диккенс, — я почувствовал, как кровь отхлынула у меня от лица — не знаю уже куда. У меня даже губы побелели. Никогда в жизни не был я так поражен. Вся жизнь, казалось, замерла во мне на мгновенье, когда, лишь взглянув на Ваше письмо, я понял, о чем в нем говорится». Оправившись от потрясения, он научил Томпсона, как уговорить отца девушки, и 29 марта уже поздравил друга, обручившегося с Кристианой Уэллер. Помолвку Томпсона, признался он невесте, он принимает так близко к сердцу, что, не будь сам женат, он был бы «чрезвычайно рад и счастлив» пронзить тело друга «добрым стальным клинком». Итак, вдохновив Диккенса на создание вышеупомянутого любопытного эпизода в «Мартине Чезлвите», Томпсон женился на Кристиане и имел от нее двух дочерей, одна из которых, леди Батлер, стала известной художницей, а другая, миссис Элис Мейнелл, — писательницей. Чувство безнадежности, вызванное у Диккенса этим увлечением, проскальзывает под конец романа в словах Огастеса Моддля: