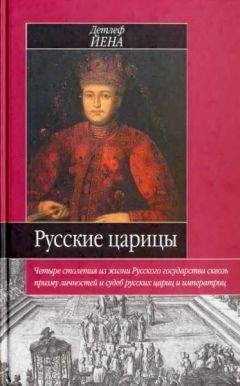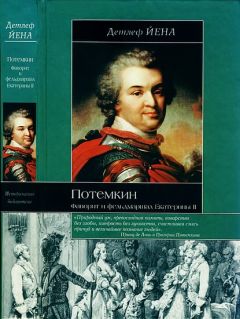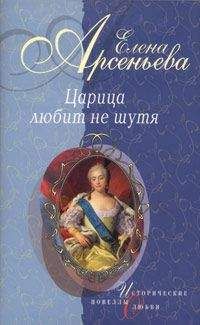Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
Перед воротами, на голой земле, два мужика хлестали отца игумена, предварительно сняв с него куколь и камилавку.
Дочь и ее мужа выволокли за стены монастыря, связали и бросили на разные телеги.
Князю еще и этого было мало. Гнев душил его, тот гнев, от которого он не мог избавиться столько лет.
Страшная кавалькада двинулась назад. По дороге взяли без боя, лишь выломав ворота, католический монастырь и за сутки выпили в нем все вина и ликеры.
Праздновали, стало быть.
Монахи, обрадованные позором конкурентов, сами угощали вояк. Черт с ними, с ликерами! Будут еще. Но ведь пан схизматов «поддержал». И столы аж ломились от яств.
Подступали потом, пьяные, и к монастырю монашек-визиток и грозились взять, но пожалели женщин. Писку много!
…Невесту, когда приехали домой, князь приказал запереть в дальних комнатах, жениха – бросить ручному медведю.
…Князь сидел и думал часа два. Потом приказал привести жениха. Того освободили из мягких объятий медведя, всего вылизанного, розового.
Пан Данила встретил его, сидя за столом, на котором стоял зеленый штоф из дутого стекла.
– Выпей. Полегчает.
Тот выпил.
– Как же это вы? И не спросили…
– Она сказала, что все равно за военного не отдадите.
– Правильно, – грозно сказал Загорский. – От военных, которые жандармов слушают, все злое на земле. Они в пушечки играют, они на рассвете приходят за добрыми людьми. Почему оружие не сложил перед сватовством?
– Гонор.
– А ты знаешь, что их породу когда-нибудь на парапетах цитаделей расстреливать будут? Как собак! За все горе!
Молодой человек всхлипнул.
– Ты чей?
– Полоцкий.
– Пей еще, – смягчился Данила. – Православный?
– Православный.
– Имения есть?
– Одна деревня.
– И это ничего. Становись на колени!
Тот встал. Князь отвесил ему три звучные пощечины.
– Не служи курице, которая кричит петухом. Не сватайся за спиной. Не ищи у церковных крыс спасения… Встань… Садись… Пей… Голоден?
– Да.
– Кондратий, курицу зятьку! Каплуна! Чтоб помнил, что каплуну служил.
Молчали. Князь Данила пил водку, лицо у него было страшное.
– Службу оставишь сегодня же… перейдешь в униатство…
– Вы же православный…
– Я не православный. Я никакой. А ты перейдешь, чтоб никогда с теми не сталкиваться, у кого защиты искал.
Помолчал.
– Получите две тысячи душ. И отправляйтесь в свою деревню. Прочь с глаз. В Вежу и Загорщину ей – никогда. Деньги будете получать аккуратно. Когда увижу, что выполнил мои приказы, что не будешь служить этой тронной б… с выхоленными ручками и слащавой улыбкой, когда узнаю, что дочь забеременела, получите на все души дарственную. Все… Можешь брать и ехать.
И, подняв его с кресла, как куклу, поцеловал в лоб.
– Иди… сын.
– Неужели вы с ней проститься не захотите? Она ведь любит вас.
– И я ее люблю, – сказал князь. – Но за то, что она забыла, от чьих рук погибла ее мать, нет ей прощения… моего.
– Я виноват, – осмелился молодой человек, – с меня и взыскивайте.
– Твоя провинность – в огороде хрен. На то мужчины и есть, чтоб шкодить… А она должна была знать… Все я тебе простил… За смелость, что не побоялся со мной связаться. Таких людей, сыне, мало на свете… Или, может, не знал, что это такое?
– Знал, – искренне признался зять.
– Ну вот. Возможно, я полюбил бы тебя, если б не виделись мы сегодня в первый и последний раз… В конце концов только когда все обойдется, можешь приехать… Один.
– Один нe приеду.
– Оно и лучше, – молвил князь. – Это вам только повредит. Потому что я смертник.
– Почему?
– Не родился еще человек, который меня голыми руками взял бы. Да и потом… расстрелянным быть – это еще ничего. Но меня за богохульство могут в Соловки отправить… к церковным крысам. А я лучше со змеями и аспидами сидел бы. Поэтому хватит загоновым мой хлеб даром есть… пусть вместе со мной льют кровь. Я не в Соловках умру. Я умру здесь, на моей земле, в моих стенах. Иди. Передай дочери мое благословение.
Молодожены уехали. А пан Данила начал укреплять Вежу. Вокруг башни, в стороне от дворца, день и ночь насыпали валы, втаскивали пушки на стены, под надсадный крик катили бочки с порохом. Под дворец тайно подвели фитили, чтоб в случае чего поднять его в воздух вместе с гостями, которые конечно же разместятся в нем на время осады. Князь не хотел никому отдавать своего чуда.
Он знал: смерть могла прийти каждый день.
И он не жалел об этом.
…Сына отправили в Загорщину и, окончив все, стали ждать.
Это происходило в мае, а в июне Наполеон перешел Неман. Некому было заниматься Загорским, как и всей приднепровской землей, отданной врагу.
– Что ж, – сказал друзьям Загорский, – гуляйте. Приговор пошел на обжалование.
Он ожидал, присматривался. Бои гремели уже за Днепром.
Наполеон был ему даже немножко симпатичен. Во всяком случае, смелый. Воин. И потом так все же было лучше, чем быть отданному в лапы тому, кто приказывал хватать людей. Тому, кто отправлял людей в монастыри.
Но, с другой стороны, слишком уж радовалась Варшава. Он ничего не имел против поляков. Их гонор был близок ему, и он признавал их право на обиду. Однако при чем здесь он, Загорский? Отца выслали из Варшавы, а теперь Варшава сама идет к нему на французских штыках. Быть затычкой? Нет, хватит. С него достаточно и православной сволочи в рясах. Иезуитов на фонарь!
Он недаром был вольтерьянцем. Раздавите гадину! Раздавите инквизиторов – все едино, попов или ксендзов. Хрен редьки не слаще.
Поэтому на вопросы соседей он отвечал уклончиво:
– А что корсиканец? Корсиканским чудовищем я его назвать не хочу. Но и от Августа в нем пшик. Я сам, возможно, не хуже его, только революция меня не возвысила до консулов, армии не дала.
Потом Наполеон вознамерился ограничить домогательства Варшавы, образовав литовско-кривское государство. Варшавское панство обиделось. Местные дворяне загорелись необоснованным энтузиазмом, предложили Загорскому возглавить движение. Он отказался.
– Почему? Вы не одобряете замысла? – спросили делегаты.
– Я не поддерживаю вас, хотя и благодарю за доверие.
Те не поняли.
– Это не борьба за родину, господа, – сказал князь. – Он увидел вашу силу и решил извлечь из нее пользу. Этот ловкач имеет свой расчет. Потому что он хочет водить вас за нос, господа, и вы, приднепровские дворяне, сейчас в незавидной роли кота, который таскает обезьяне из огня каштаны.
Он прикрыл глаза.
– И еще, панове… Народ не с вами. Он ненавидит Курьяна, шпицрутены, рекрутские наборы. Но француз пришел в его дом, забрал его сено, расстрелял отца, осиротил детей… когтем зацепил за сердце. А вы знаете, что такое наш народ, когда его когтем за сердце… Так вот, я не большой любитель кулаги, лаптей, народных запахов. Но против народа я не пойду…
И посмотрел прямо в глаза делегатам.
– Если б я был трусом, я, спасая свою шкуру, возглавил бы ваше движение, чтоб отдалить расплату лично со мной… Сколько вас? Только на Могилевщине около тридцати тысяч. Сколько б пошло дворян со всей территории возможного – гм! – государства? Шестьдесят. Шестьдесят тысяч отчаянных голов. Больше, чем корсиканец потерял при Бородино. Корсиканец в Москве. Чаши весов колеблются… Скажем, если б была надежда на успех, трус в карты не играет. Что тогда? Марионетки в руках человека, которого ненавидит мой народ? Великая держава Шлезвиг-Суходольская… «Их глаубе, герр Кёниг…» – и руки по швам.
Он грустно улыбнулся.
– Это не шутки, господа. Не делай другому того, что тебе не мило. Не засовывай пальцы меж дверей. Мой Янка сделал из этих двух пословиц одну: не засовывай пальцев, куда тебе не мило. Не будь пушечным мясом для чужих капризов. Вы не слуги Курьяна и не слуги маленького капрала. Теперь вы только металл под молотом… Вы еще не раз будете глотать желчь… Но те, белые, внизу, – они не с вами, и не с капралом, и не с Курьяном… И вот поэтому я не буду спасать своей шкуры их, и вашей и всякой другой кровью, а просто подожду. Подожду, несмотря на ваше презрение, пока не придет Курьян, чтоб как можно дороже продать свою жизнь… Все.
Часть дворян все же пошла, вооружив своих мужиков и шляхту. Услыхав об этом, он пожал плечами:
– Les sal-laries.[65]
Он вымолвил это так, что в слове выразительно прозвучало соединение «sal».[66]
«Ах маленький капрал, ловкач, маленький шельмец, сбивающий груши чужими руками! Почему же ты тогда не сбил с дерева и нас? Это же так легко. Во Франции нет крепостного права. Сделай, чтоб его не было и здесь, и в России. Как сразу загремит Курьян! Да нет, куда тебе! У тебя есть сила – и то не всегда, – чтоб столкнуть лбами людей с разным честолюбием и разными страстями, но ты не можешь усмирить море. Ты боишься, что оно разбушуется. И это доказательство того, что ты великий полководец, но не великий человек. Великий не испугался б моря. А ты испугался. Тебе так дорого стоило взнуздать это море там, у себя. Ты слишком хорошо помнишь, как корзины под гильотинами делались скользкими от крови. Ты боишься того же и у нас. А почему? Зачем тебе жалеть мою голову? Ты ведь не пожалел бы подставить ее под пулю на одном из бесчисленных редутов. Значит, дело не в моей голове… Просто ты кукольник, который дергает нитки марионеток, как каждый тиран, в котором всегда есть и будет что-то от холуя. Кукольник, а не Ладымер из сказки, тот самый, что вспахал лемехом море.