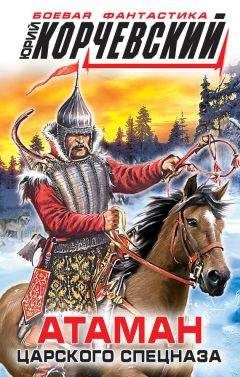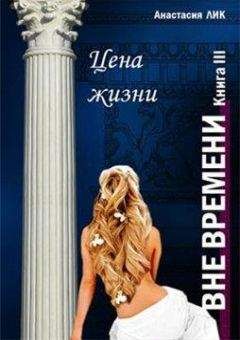Юрий Крутогоров - Повесть об отроке Зуеве
Показал я своим друзьям компас, подаренный Мишенькой. Когда тонкая стрелка замерла на оси и показала, где какая сторона света, ребята по собственным приметам подтвердили, что компас не обманул. Дал им подержать игрушку. Замирали от страха и восторга. Так до позднего вечера и не отпустили меня. Повели в лес, где показали расставленные ловушки для песцов. Это кляпцы. Зверь тронет настрожку, планка падает вниз. Я так и услыхал: кляпц. Какое звучное, точное слово! Сызмальства малый самоед приучается к звериному и рыбному промыслу. Тундра ему дом родной. Каждому свое отпустила природа, и нет ничего крепче привязанности человека к своей земле. Можно затворить кровь на ране, но никто не сможет затворить путь человека к своему племени, к привычкам. К инородцам надобно идти не на силу оружия полагаясь, а пытаясь понять их, уважая их. В любом случае насилие пагубно и бьет вторым же концом по насильнику.
Эптухай видел во мне ровесника. И мне по нраву пришлась его смышленость. Рассказывал, что уже со взрослыми ходил на медведя. Убил одного, что не всякому удается. Я спросил, видел ли он белого медведя. Мальчишки заликовали. Эптухай мотнулся к чуму. Спустя минуту, оттуда, перебирая мохнатыми лапами, вылезает белый медведь с острой мордой и черным носом. Рычит, переваливается. Становится на задние лапы, приплясывает, точно цыганский попрошайка. И ко мне. Облапил пребольно, еле увернулся, дабы не обцарапал когтями. Малые ребята визжали от радости, посмеиваясь над моим неподдельным испугом. Эптухай скинул шкуру: оказался весьма доволен своей озорной проделкой. Петька тоже хохотал. Эптухай накинул на мои плечи белую шкуру: «Бери».
— Спасибо, Эптухай.
Глаза зажмурил, вспомнил русское слово:
— Па-жа-лас-та!
Побежал и я в чум, где оставил свои вещи. Оторвал от мануфактурного полена изрядный кусок пестрядины. Накинул на него материю, обмотав охотника, наподобие кокона.
Вот картина, достойная удивления. Врачевали одного охотника. Упросил Вапти взять с собой. Чтоб вернее дело сладилось, сунул ему серебряный рубль. Так купил я себе полезное для наблюдения зрелище. У мужчины средних лет на боку образовался нарыв.
Вапти высмотрел гнойник. Огонь в чуме вовсю пылал. Врачеватель кинул в костер разломанные куски чаги. Она скоро обуглилась. Вапти голыми пальцами схватил уголек, приложил его к нарыву. Думал, охотник завопит благим матом. Ничуть не бывало. Не подал никакого знака, что невтерпеж. Терпел, пока чага не прожгла кожу до живого мяса, сжегши нарыв до корня. Старик присыпал воспаленный кусок кожи березовыми чистыми опилками, приложил чистый лоскут. Так больной обрел здравие. И что же? Немедля попросил трубку, закурил. Полагаю, самому Протасову небезынтересно было бы тут побывать и убедиться, что ланцет не всегда самое спасительное средство. Поразило меня более всего то, что хозяин чума не подал никакого вида по поводу претерпеваемого страдания — вот выносливость, делающая честь мужчине! Лишь собаки, залегшие у входа, громко скулили. Другие псы тут же подхватили. Сделался непрерывный вой, переходящий от одного края становья до другого. Показалось мне, будто караульные перекликаются: «С богом, ночь начинаем». А ночи и в помине нет. Дневная светлота. Между ранним вечером и поздней ночью различия нет никакого. Трудно уснуть. Петька сразу угомонился, я не дремал. Сила уже протрезвел, был разговорчив, жаловался, что русские казаки на постах своих начисто обдирают кочующих самоедов. Ясак, ясак. Огнем ружейным грозят. Не дело так разбойничать, это верно. Сила порадовался моему замечанию. Просил: когда вернусь в царский город, доложить начальникам о таких утеснениях. Я молвил, что до правителей мне далече, чином не вышел. Шаман любопытствовал, как получилось, что дух по имени Наука выбрал меня для дальнего странствия. Я рассказал Силе про свою жизнь. Объяснил, какие отрасли наук познавал в школе. Про эти вещи князек мало что уразумел, но интересовался: учат ли школяров стрелять зверя, бить острогой рыбу, ставить сети на стаю уток. Сила недоумевал: чего ж я умею? Я признался: мало что умею, но хочу больше знать. «Про что же?» Про звезды, ответил, про устроение природы, про обитателей земли. Он затряс в испуге головой. По его понятиям, опасно простому смертному проникать в те сферы, где господствуют духи. Они осерчают, накажут. Торым разгневается. Гнев же Торыма страшен. Он не прощает тем, кто без спросу лезет в его владения. Торым разметет стада оленей, оставит леса без зверей.
В дальнейший спор я не вступил. Не переча Силе, думал, однако, о том, что сам мало знаю обо всех этих материях и, если кое-что вынесенное мною из путешествия сгодится Палласу, тем и утешусь.
Днями самоеды Небдинских юрт снимутся с места. Мох сух. Олени но едят его. Пойдут же они на север, к Ямалу.
Во время моего отсутствия Ерофеев и Шумский даром времени не теряли. Изрядно приумножили наш научный багаж. Набили много пролетной дичи, поймали немало зверья. Десятка три всевозможных, отменно сотворенных чучел, смею думать, украсят коллекцию кунсткамеры. Всякий натуралист сможет иметь представление о тундровых щедростях — что лесных, что небесных. А гербарии каковы? Чего ж еще больше? Гербарии, признаться, читаю, как книги. За таким занятием могу проводить долгое время. И что может быть занимательнее? Вот стебельки сибирской ветреницы. Есть белые, есть бледно-желтые. Встречаясь в путешествии с ветреницей, заметил: цветок этот, когда он в полном цвету, распускается при восходе светила, наклоняясь к востоку и оборачиваясь таким образом по течению солнца. К закату цветок свертывается и остается в таком виде до утренней зорьки. В холодные и дождливые дни (ветреница капризна, как ветреная барышня) совсем не распускается.
Шумский шутливо молвил, что надо заказывать художнику таблицы, где будет значиться, что коллекция собрана нашей экспедицией в тундрах. Но до тех пор дожить бы! Много воды утечет в Оби, покуда доберемся к берегам Невы. И не думаю покамест об этом. Радуюсь лишь радению моего чучельника. В дальнейшую ж дорогу на север коллекцию для легкости пути брать не буду. На обратном пути прихватим все наши достопамятности. Денисов обещался беречь наши богатства пуще ока.
Вышел нынче на реку. Не река — море бескрайнее. Можно трогаться дальше. Лед сошел. Полагаю, лодки три хватит. Мой молодой друг Петька не отходит ни на шаг. Всякую ласку ценит, а тут его добротой не балуют. Просился, чтобы захватил его с собой на север. Не могу взять такого греха на душу. Сник мой казачонок. Велел ему не печалиться, а ждать нашего возвращения. Будет на то божья воля — вернемся. Признаться, я сам за столь небольшой срок к нему привык. С какой готовностью показал кумирню! Без него как бы добрался до Небдинских юрт? Отчаянный парнишка. Рано оставшись без родителей, обрел должную самостоятельность, что весьма ценно в людях. Петька — добр, неглуп. Готовый человек! Что-то будет с ним дальше? Думаю об этом не без грусти.
7Шестые сутки малая экспедиция Зуева на трех просмоленных лодках шла к низовьям Оби.
Узенькое северное лето катилось к зениту. Срываешь после ночевки ягодки — проморожены, во рту оттаивают, холодя зубы. И еще пролетные птицы держали лето в тонких лапках. Гуменники, серые казарки, клекоты, визгуны полоскались на волнах, взмывали вверх, стряхивая брызги, и чучельник, отгадчик примет, видел в этом обещание большой воды, тепла.
Зуев греб наравне со всеми. Ладони — в кровавых пузырях. Перемотал руки тряпками, лицо до глаз укутал шерстяным платком.
— Эх, ты, — добродушно издевался Шумский, — сам-питерской…
— Холодно-о-о, — ежился Зуев.
Ерофеев посматривал на Василия, размышлял: «Ну, немчура. Никакого понятия. Герр Паллас… Нашел кого снарядить в предводители. Соколова послать — иное дело. Мужчина. А этот? Смех и грех. Тьфу».
— Холодно ему, — дразнился Шумский. — На чучелу ты теперь похож. — И набрасывал на Васины ноги разного тряпья.
Не унывает старик. Тряхнет бородой с сосулями, словно конь уздой, любуется птичьими стаями. В детстве во время молотьбы, рассказывал, при виде гусей ребята, взявшись за руки, припевали: «Летят гуски, дубовы носки, говорят гуски: чокот, чокот, чокотушечки…»
— Цокот, цокот, цокотушечки, — подхватывает Вану. Ему холод нипочем, щеки задубели.
Вася тоже повторяет детскую песенку Шуйского, и эти слова отогревают онемевшие губы.
Рядом заплескался гуменник, дикий небольшой гусь. Подплыл поближе. Шейка его была изогнута, как вопросительный знак. Гуменник точно знать хотел, что за люди сидят в лодках, куда ведет их речная дорога-га-га-га.
Вася улыбнулся. Так тепло стало на душе.
Тундра. Безлюдье. Чужбина. И вдруг птица с таким земным, ласковым, домашним именем. Гуменник… Само это слово как бы вобрало в себя сельское, шумное, пыльное гумно, неоглядное поле ржи, за которым на юру виден привычный ветряк.