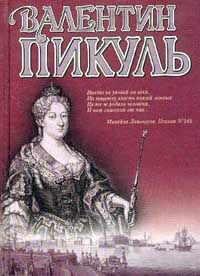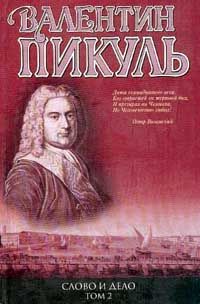Валентин Пикуль - Слово и дело. Книга 1. «Царица престрашного зраку»
И мрачно вышагивал князь Дмитрий Голицын, думая:
«Охти, господи! Ране парсуну малевать велел с кавалерией красной, а теперь сам, будто лакей, несу ей кавалерию голубую… Плохо стережет Лукич царицу: кто-то мутит ее, надоумливает скверно!» В сенях дворца подбежали к министрам красивые статные молодцы, князья грузинские, голиками быстро обмели депутатам башмаки от снега.
Василий Лукич по-хозяйски (пообык уже тут) двери открыл.
— Ея императорское величество, — известил, — ждут… Дмитрий Михайлович на середину светлицы выступил.
— Благочестивейшая государыня! — заговорил он. — Признавая тебя источником славы и величия России, вручаем мы тебе орден святого Андрея, первейший орден государства нашего, и знаки Александра Невского. Мы тебя избрали на престол прародительский, а ты соблаговолила приять царствование, и мы благодарим тебя, что вернулась ты в отечество, принимая корону из рук наших…
Канцлер Головкин вдруг подхалимскую слезу вытер.
— От бога все… не от нас! — сказал слюняво. И Анна ему подбородком жирным кивнула, утверждая. Резала ей ухо речь Голицына: от бога-то — вернее (так и Феофан кричал по церквам). Но Голицын круто тащил далее свою мысль — упрямую.
— Благодарим мы тебя, — продолжал, — и за то, матушка, что подписала ты кондиции, кои предложены от имени нашего тебе на славу, а народу российску — во благо! Вот почему, государыня, и явились мы пред тобой, дабы водрузить на твою грудь знаки орденов наизнатнейших…
Степанов шагнул с блюдом вперед. Головкин — по чину канцлера — уже потянулся к Анне, чтобы возложить ордена на нее. Но Анна вдруг сама взяла их с тарелки и отвечала с язвой:
— Спасибо! А то ведь, канцлер, забыла я их надеть… «Един тут враг — Голицын!» — к нему и повернулась.
— Дмитрий Михайлыч, — сказала, — и вы, прочие… Буду я стараться, — посулила Анна Иоанновна министрам, — чтобы все были мною довольны. Согласно желанию вашему, господа высокие, подписала я кондиции, о коих ты и упомянул сейчас, Дмитрий Михайлыч.
— Подписанное да исполнится, — буркнул Василий Лукич.
Анна глянула в его сторону: «Надоел Лукич, надоел дракон!»
— Вы убеждение имейте, — потупилась императрица, — что кондиции те я свято хранить и соблюдать стану до конца моей жизни. И вы тоже не преступите границ насилия в отношении меня, бедной вдовицы.
Не выдержала — заплакала. Затряслась ее грудь, перетянутая муаром двух кавалерии, андреевской и александровской. Выпятила перед собой Анна ладони, словно клешни.
— Целуйте, — всхлипнула. — А на третий день меня на Москве ждите… Въеду!
Глава 9
И — въехала… За каретами членов Верховного тайного совета девять богато убранных лошадей катили карету императрицы под арками (то свадебными, то похоронными). Барон Габихсталь, как немец ученый, был взят на подножку кареты, чтобы толковать императрице символы эмблем и афоры древние с латыни на немецкий перетолмачивать.
— Над аркою этой, — рассказывал он, — зрите вы глаз человечий, столь широко распятый, будто разодрали его! Это означает внимание Москвы к вашей особе. А под глазом — писано латински: «Воззрел я на пути дома своего…»
Кортеж покатил под другой аркой. Анна была нарисована тут сидящей на троне под пальмой; вокруг нее кучей лежали знамена, трубы, пушки, компасы, астролябии и перпендикуляры. И рот у Анны пышет облаком, а в облаке том начертаны слова какие-то…
— Это что ж за глагол из меня пышет? — спросила Анна.
— Пусть славятся, — толмачил Габихсталь, — Египет Изидою, а Греция Палладою, Аравия царицей Савскою, а Рим пусть восхваляет Егерию. Но да царствует долее всех их бесподобная Анна, полезная для России…
Улицы от самого Земляного города до Кремля были посыпаны песком и убраны еловыми ветками. Зеленые душистые лапы скрипели под полозьями и под колесами. Громыхали пушки, а под сводами Иверской часовни, словно вороны на снегу, чернели духовные люди. Заливались колокола сорока сороков, и гулко ухал Иван Великий. Анна всплакнула, про замок Вирцау вспомнив.
Возле Успенского собора ее из кареты вывели. Здесь дамы, в робах и самарах, подхватили царицу бережно, повели наверх для молитвы. Ногою в сень собора Анна вступила, и снова трещало все над Москвой: войска палили из ружей — троекратно, огнем боевым, плутонговым…
— Спасибо вам всем, — кланялась Анна. — Всем спасибо мое царское… Эвон вас сколько! Нет одного Остермана, бедного.
— И… Ягужинского, матушка, — подсказал канцлер Головкин.
Помолясь на могилах предков своих в соборе Архангельском, императрица проследовала в кремлевские апартаменты для отдыха. Но едва перешагнула порог, желая в одиночестве побыть, как в сумерках палат разглядела знакомую фигуру «дракона» своего.
— А ты уже здесь, Лукич? До чего ловок ты у меня… Долгорукий выступил из тени, поклонясь изящно:
— Всегда ваш слуга… Поскольку траур на три дня снят, по случаю въезда вашего, то пришел озаботиться туалетами для вас. Москва ликует — ликуйте же и вы, ваше величество…
* * *На три дня был снят траур, но Анна Иоанновна и приверженцы самодержавия не ликовали: кондиции припекали их, словно горчичник. Дикая герцогиня, Екатерина Мекленбургская, наседала на свою царственную сестру с советами.
— Раздери ты их! — внушала настырно. — Без кондиций цари жили, никому отчета ни в чем не давали. Хотят — казнят, хотят — милуют. Эвон Феофан-то, владыка синодский, речет нам пророчески: будет нам утеха одна под старость — яблочно драчено себе натирать. А мы не стары с тобой, сестрица: под сорок лишь кинуло. Тут бы нам и погулять в годы остатние. Повеселиться бы в полную сласть… Раздери, говорю!
Кейзерлинг, таясь задворками, привез на Москву у себя под шубами маленького Бирена. Карлуша служил почтальоном — утром и вечером младенца таскали из дома в дом заговорщики, пихали в сырые пеленки записки, доносы, проекты… Анна читала, читала, читала!
— Голова вспухла! Как быть-то? — сомневалась. — Гудит Москва, в полках тоже за меня… Кого ж мне слушаться?
— Только Остермана, — нашептывал обворожительный Корф. — Без Остермана вам никогда не уничтожить кондиций.
А под окнами дворца ревела пьяная гвардия.
— Наша берет! — орал граф Матвеев, гуляка известный. — Никаким верховным подчина не сделаем. Виват Анна! Виват самодержавная! Матка наша!
Фельдмаршал Долгорукий пришел в Совет, тылом кулака вытер слезившийся глаз.
— Не усмирить, — признался. — Я токмо подполковник в полку, а матка Анна полковником надо мной стала… Как совладать? Не помереть бы всем нам смертью худой, собачьей!..
Анна отполдничала, в окнах сочился серенький московский денек. И понесло ее в мыслях обратно на Митаву, вспомнила леса, через которые ехала. Ах, где-то среди лесов этих, в деревеньке убогой, ждет ее любезный, томясь разлукой. Помазанница она божия, императрица всероссийская, а… что толку? Любая торговка блинами придет домой, а там муж, там дети. И куда как ее, императрицы, счастливей!
В мыслях таких раскалила она себя, озлобила плоть и душу в желаньях самовластных. И тут, совсем некстати, потянуло от дверей сквозняком и духами — это Василий Лукич пришел с перьями.
— Князь Голицын, — сказал, — для разговора важного к вам жалует… Готовы ль вы?
— Когда покой мне дадите? — вспылила Анна.
— Ваше величество, — ответил Лукич, — вы еще и царствовать не начали, а уже о покое заговорили… Что же дале-то станется?
Князь Голицын, в комнаты войдя, заговорил дельно:
— Верховный совет рассудил за благо согласовать суть присяги общенародной, а такоже иноземцев, при дворе нашем обретающихся на службе волонтирной. И вашему величеству сей тестамент высочайше апробовать надобно!
Анна, не мигая, смотрела на огонь, бушевавший в печной утробине; от смолистых поленьев с треском летели искры.
— Говорят, — произнесла с угрозой, тихо, — измыслили вы лукавство противу моей особы? И будто присяга та не имени моему, а вам, верховным, приноситься должна? — Поднялась резко от печи, с кочергою в руках, пошла на Голицына. — Кому еще, — выкрикнула, — кому еще, окромя особы моей, присягать должны православные?
— Отечеству, — сказал Голицын твердо.
Анна Иоанновна исподлобья глянула на сановного старца своим престрашным зраком. Нет, не испугала! А уж каков взгляд тот был — у других спросить надо (даже Бирен его не выдерживал).
— Ну, так ладно, — потухли глаза Анны. — Еще что? Дмитрий Михайлович положил на стол грамоту из Совета.
— На сих днях, — сказал, — вы самовластно, без ведома нашего, упредив события, себя полковницей гвардии объявили…
— Нешто не по праву? — осерчала Анна.
— Конечно, нет. Вам права не дано. Но мы препозицию вашу рассмотрели, и вот… патент! Но впредь, — напомнил Голицын, — Совет просит вас не забегать вперед. Ибо, — объяснил спокойно, — мы тоже не святые: не каждую препозицию вашу потом можно меморией подкрепить!