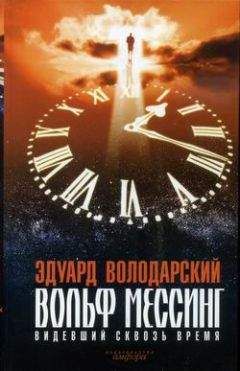Евгений Марков - Барчуки. Картины прошлого
— Вот так разоспался барчонок! — слышу я чей-то голос. — И красные яйца прогулял! Вытянулся на сундуке ровно на пуховику!
Яков Федотыч бережно переносит меня на правый клирос.
— Одевайся, Гриша, скорее, где твоя шубка? — озабоченно суетится маменька, уже в салопе и капоре. Костя, совсем одетый, в шубке и в кушаке, спит на подоконнике.
— Маменька, я тоже хочу спать, не трогайте меня! — прошусь я, вполне убеждённый, что меня только напрасно мучают.
— Просто беда с ними! Никогда их больше не нужно брать! — слышится раздосадованный голос маменьки.
Я обиженно открыл глаза. В высокие окна церкви глядит сильно поголубевшее утреннее небо, уже почти без звёзд.
— Маменька, разве кончилась всенощная? Разве уже христосовались? — спросил я полуобиженно, полурадостно.
— Скорее, скорее! — торопила маменька, не слушая меня, и с усилием застёгивая крючки моей шубки. — Весь народ уже из церкви вышел, а вас всё не соберёшь! Отец давно в коляске ждёт, сердится…
Опять пахнул в лицо свежий воздух ночи. Опять плавно закачались рессоры коляски. Я лежу ничком на чьих-то коленях, весь мокрый от поту; чья-то тяжёлая голова, должно быть, Костина, повалилась мне на живот. Но спится сладко, и нет сил сказать что-нибудь.
Тпруу! Толчок; нас вынимают из коляски. Сквозь полуоткрытый глаз видно, как побелело перед зарёю небо, как бело стало на дворе. Идёшь, натыкаясь через тёмные сени, почти не раскрывая век. Кто-то ещё идёт впереди, сзади… Громко стучат в темноте папенькины калоши. Вот зал. Окна какие-то странные, бледно-синие; никогда мы их не видали такими. В углах тёмные тени. А что это под окнами длинное, словно под белым саваном?
— Братцы! Куличи и бабы поставлены! — раздаётся взволнованный, но ещё заспанный голос Кости.
Все останавливаются. Теперь ясно, что под окнами на длинном обеденном столе стоят покрытые огромною скатертью бабы, куличи и все прочие радости святой недели.
— Братцы, кривая баба посередине, она самая лучшая, — объясняет Костя во внутренней борьбе с самим собою.
— Спать, спать, идите спать! — прекратил наши колебанья голос маменьки, которая в это время выходила из передней. — Забери их, Афанасьевна, и раздень!
Я проснулся уже ярким днём. Шмыганье людей из угла в угол и громкий говор, наполнявший дом, разбудили меня.
Бабуся сидела на сундуке, разодетая по-праздничному, в каляном и лоснящемся ситцевом платье, шумевшем как бумажный гром, в двуличном шёлковом платочке на голове и в новом ковровом платке на плечах. Всякая морщинка её чистенького и доброго лица сияла торжеством. Она опрятно разостлала на комоде приготовленную мне новую яркую рубашку со всеми принадлежностями, а комнату ещё с вечера привела в праздничный вид, повесив чистые занавески и засветив перед Митрофанием-угодником лампаду с привешенным к ней мраморным яичком.
Говор, раздававшийся в зале, торопил меня донельзя. Там происходило что-то слишком серьёзное, чуть ли не сами разговины! Проворно снарядился я и вырвался из рук бабуси, хотевшей ещё раза два прочесать частым гребешком мою всегда всклокоченную голову.
В зале действительно происходило нечто необыкновенное. Огромный стол был уставлен всевозможными святонедельными яствами, и лакеи с большими дымящимися блюдами всё ещё носили из кухни аппетитно пахнувшие и затейливые на вид кушанья. Я только мельком успел заметить на столе шоколадного баранчика и кудрями из сливочного масла, с коринкою вместо глаз и золотыми рогами. Полчище баб и куличей, облитых, как молоком, застывшим сахаром, и соблазнявших взор посыпкою из разноцветных конфект, мелких, как мак, наполнило меня смутным волнением, но я не мог войти в более обстоятельное изучение их, потому что меня остановила сцена около стола.
Там маменька с сёстрами и гувернанткой окружали нашего Сашу, который в упорном молчании нагнул свою белобрысую голову и тихонько капал слезами. Пелагея держала его за ручонку, в кулачке которой был стиснут раскрошившийся по полу кусочек бабы. Лакеи, девки, старшие братья с любопытными и насмешливыми улыбками толпились кругом, словно радовались позору бедного Саши.
Дело обнаружилось очень скоро. Сашу не брали с нами в церковь к заутрене, поэтому он проснулся раньше всех нас, и раньше всех открыл в полутёмной и ещё совершенно пустынной зале существование длинного стола, покрытого белою скатертью. Забравшись под широкие складки этой скатерти и догадавшись, что её спасительный покров устраняет от него праздные взоры любопытных, милый наш Саша, нарочно не ужинавший вечером, по совету Пети, для вящего аппетита на разговенье, — вдруг увидел себя в самом соблазнительном соседстве с высокими головатыми бабами, пахнувшими ванилью и изюмом, и с пузатыми многоэтажными куличами в самых аппетитных завитушках. Как нарочно, всё это население баб и куличей толпилось к тому краю стола, который был ближе к стене, и с которого, стало быть, всего безопаснее можно было начать ближайшее знакомство с ними.
Сначала намерения Саши ограничивались невинною попыткою выковырять из куличей все изюминки, торчавшие наружу; но когда Саша пожевал эти изюминки, он до такой степени освоился через них с запахом сдобного кулича, что незаметно для себя приступил к обнажению куличей от всех вообще наружных украшений. Тогда естественным образом замыслы Саши расширились, и он составил решительный план сравнить мякиш баб, в которые, как он знал, клали шафран и очень много яиц с сахаром, с мякишем куличей, в которых шафрану вовсе не было, а яиц и сахару было, во всяком случае, гораздо меньше. Саша начал своё исследование именно с кривой бабы, о которой Костя рассказывал накануне соблазнительные вещи. Легонько сдвинув бабу с блюда и покойно усевшись на свои коленки, поощряемый полутьмою и уединением, в которых пребывал он под длинной скатертью, Саша не торопясь пробил поджаренное донышко бабы и стал таскать через пролом мягкую внутренность; в ней действительно оказалось изобилие миндалю и коринки, так что остановиться на полдороге Саше было невозможно; пришлось выпотрошить кривую бабу до самых корочек. Недоеденный запас наевшийся Саша задумал транспортировать в свой угольничек, твёрдо уверенный, что все примут оставленный им на блюде пустой футляр за настоящую бабу. Эта транспортировка и погубила бедного Сашу. В ту минуту, как он, набив свой косячок сдобною мякотью, возвращался под скатерть за новою добычею, Пелагея несла на большой стол кастрюльку с кипячёными сливками к кофе, и неожиданно наткнулась на подозрительную тропу хлебных крошек, которая шла от этого стола прямёхонько к Сашину угольнику. Коварная Пелагея не замедлила заглянуть в угольник и увидала там всю поживу Саши, тщетно прикрытую Сашиными картинками и принадлежавшим ему растрёпанными томом родословной книги.
Как нарочно, все в доме уже встали, и маменька шла в залу.
— Извольте посмотреть, сударыня, что тут барчуки натворили, — объявила, торжествуя, Пелагея. — Вот вы завсегда, сударыня, гневаться изволите, что я на детей поклёп взвожу. Извольте теперь сами глянуть, сколько натаскано.
— Да откуда же это? — в гневном недоумении спрашивала мать, осматривая по очереди то хлебную тропу, то Сашин провиантский магазин, — ведь дети все спали!
— Хожено, ей-богу, хожено! — завопила Пелагея, откинув скатерть сверху баб и увидев, что всё блюдо кругом кривой бабы полно крошек.
А в залу между тем всё подходили и подходили; весь дом был уже на ногах, все разодеты по-праздничному, все спешили к разговинам в зал.
— Дети, кто это сделал? Признавайтесь сейчас! — грозно требовала мать. — Уж это, наверно, не миновало твоих рук! — обратилась она к Косте, который вбежал, запыхавшись, в зал и выбирал растерянными глазами, с чего ему начинать.
— Я? Ей-богу, я спал, маменька! Я сейчас только умылся, хоть няню спросите. Я и в зале совсем не был, — изумлённо отговаривался Костя.
— А где Гриша? Не Гриша ли эту штуку выкинул? Позовите-ка Гришу, куда он спрятался?
Саша всё это время сидел на корточках в складках скатерти, забившись к самой стенке, бледный и потерявшийся, и не подавал голоса. Ручонки его только что возвратились со стола с зажатым в пальцы мякишем, но он не имел теперь силы даже разжать пальцы.
— Ах, мои матушки, да он, вот он! Ишь, бесстыдник, куда забрался! — раздался предательский голос Пелагеи, которая поднимала опущенную до пола скатерть.
Все нагнулись под стол — и увидели Сашу. Он смотрел на всех испуганными и неподвижными глазами, не пытаясь сдвинуться с места, точно молодой сычонок, которого внезапно застигло в ночной охоте солнечное утро.
— Так это ты, дрянной! Вылезай, вылезай! — крикнула маменька после минуты изумлённого молчания.
Взрыв всеобщего смеха встретил бедного Сашу, когда он, с крошками бабы в спутанных волосах и на всей его пухлой обиженной рожице, со всеми признаками своего преступления и своего стыда, медленно и неохотно выползал из своего убежища на свет божий, на грозный суд маменьки. Но когда Пелагея сняла бабу с блюда и для довершения очевидности опрокинула её перед глазами всех, пустую как дупло, — публика разразилась ещё более неудержимым хохотом, в котором против воли своей приняла участие сама маменька.