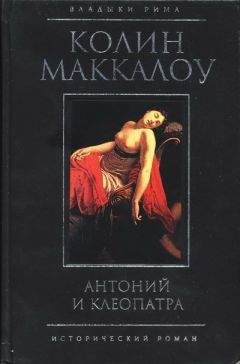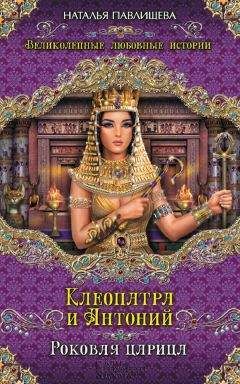Алексей Югов - Ратоборцы
Он повествовал дальше.
Дубравка впервые по-настоящему услышала от него, как рухнула под ударами Чингиз-хана великая Китайская империя, затем — царство Тангутов, коего не спасли ни заоблачные высоты, ни тысячеверстные пустыни. Он рассказал ей о гибели Хорезма, о сокрушении Армянского и Грузинского царств, о том, как подмяли под себя татары и перемешали с собою неисчислимые орды половцев и каракалпаков… Как, пройдя через всю Русь, вторглись и к нему — на Галичину и Волынь.
Как просил он — и тщетно! — еще задолго до вторженья, короля Бэлу о союзе, о помощи, как тот отказал ему. А потом и сам, погубя в поле стотысячную конную мадьярскую армию, позорно бежал, гонимый татарами по пятам… Как притихли государи Европы… Как после несчастного для христиан дня сраженья под Лигницей к Батыю, в его венгерскую ставку, одних только рыцарских окровавленных ушей, отрезанных у трупов, было отправлено девять полных мешков!..
…Он поведал ей о том, как дотоле никем и никогда не побеждаемая Русь склонила главу свою под ярмо. Как понял старейшина Земли Русской, Мономашич Ярослав, отец сего Александра Новгородского, что не мечом теперь, а данью, златом и серебром надо спасать народ. И это было мудро, ибо иначе вырезали бы всех, и даже детей, которые успели дорасти до чеки тележной!..
Дубравка с трудом переводила дыханье, захваченная ужасом того, о чем повествовал отец.
Мудрый отец Александра Ярослав, обласканный Батыем, не умедлив, принял старейшинство в Земле Русской и, ублажая и удерживая поодаль черные сатанинские полчища щедрой данью, подкупами и подарками, самоотверженно принялся целить и утешать скорбную и погорелую, кровью сочащуюся Землю!
Погребались бесчисленные мертвые тела. Отстраивались города. Плуг и соха принялись вновь кроить ущедренную тлением землю… Народ возвращался из лесов.
И опять, исподволь, великий князь Владимирский — отец того Александра Новгородского — делался и грозен и властен.
— А Александр тогда, дочурка, совсем еще юным княжил в Новгороде. Один Новгород чудом уцелел только: не дошли татарове… А Новгорода того, богатого, вожделели все — и немцы и свей!.. Новгород — то ключ к морю! Кто держит его — тот и богатеет. А и щит — Земле Русской!.. Ежели кто проломится сквозь те ворота новгородские к нам, в Землю, — то поди удержи!.. И вот пришел на Неву Биргер… С ним — свей, и сумь, и емь — вся Финнмарка! Только карелы одни — те не пошли с ними… Пришел Биргер… И датского короля люди примкнули к нему. И множество рыцарей немецких стеклось к нему под хоругви!.. Девять тысяч кованой рати!.. Так велел папа Римский!.. Они ведь, эти католики, — с горечью пояснил князь, — считают нас, русских, гораздо хуже, чем язычников!.. Да-а! Девять тысяч кованой рати!.. — повторил он.
Дубравка замерла…
И Даниил, словно бы сам находившийся в тот страшный час близ Александра, да и на самом деле знавший все доподлинно, что там происходило, на берегах Волхова и Невы, рассказал ей, как с горсточкой воинов, всего лишь около семисот, юноша Александр, еще неопытный в битвах, отверг просьбы и мольбы всех ропщущих и испуганных о том, чтобы юный князь взмолился бы отцу своему о присылке больших полков, и, словно барс, — «а у них ведь, у Суздальских, барс и начертан на знамени их!» — словно барс, кинулся он, юный Ярославич, навстречу Биргеру…
— Нет! Он не затрубил в свой Олифант, донька, этот Александр! — произнес тихо и торжественно Даниил.
Теперь на бледном, тонком лице Дубравки можно было прочитать все перипетии Невской битвы… Она то задыхалась, полураскрыв губы, то вдруг вся вытягивалась, словно бы ей так виднее было, где бьется Александр, окруженный, стиснутый отовсюду лязгающей и орущей громадой железных людей.
А то вдруг облегченный вздох и радостный возглас вырывались у нее: это когда Таврило Олексич, верхом на коне, прямо по сходням, с разгону, ворвался на шведский корабль — ворвался вслед за влекомым под руки, расслабленным королевичем шведским; это когда Сбыслав Якунович, с одним топором, будто дровосек, прокладал железную просеку среди шведов; это — когда Миша-новгородец, пешой, со своей, тоже пешей, ватагой, проломился сквозь конный рыцарский строй и зажег шведские корабли берестяными факелами!..
А когда княжна услыхала, как Савва, юный сподвижник юного и бестрепетного князя, подрубил златоверхий шатер самого короля шведского и шатер затрещал и рухнул, то так радостно и звонко захохотала и так подпрыгнула, что чуть не свалилась с колен отца.
— А он?.. А он?! — взволнованно вопрошала она в разгар битвы.
И отцу ясно было, что это она об Александре и что она как бы потеряла его на мгновенье из глаз, в железном коловращенье, в буре битвы, и теперь сердчишко ее сжимается и трепещет: «А вдруг его?.. Да нет, нет! — тут же успокаивала она себя. — Убить его никак не могут! Отец же сказал наперед, что этот человек, который Роланда выше, что он и поныне жив!»
Как же она ликовала, даже запела, раскачиваясь, когда отец, сам не менее дочери взволнованный, рассказал, как встретился Ярославич в той страшной сече с самим Биргером! Как сшиблись они: Биргер — на вороном, Александр — на белом коне; как Железный Герцог понес жестокий удар от руки Александра, прямо в лицо, острием меча, и лишь забрало спасло его! Как показал хвост коня своего доселе непобедимый витязь, верховный ярл Швеции! Как, едва-едва уцелев, с трудом отбитый телохранителями, укрылся он на одном из причаленных кораблей…
Глаза Дубравки, как звезды, сияли в темноте. И когда закончилась чудесная не то песнь, не то повесть и минуло молчанье, то:
— Отец! Миленький! — вскричала она. — А он, Ярославич, когда-нибудь приедет к нам?
Отец улыбнулся и, помолчав, ответил:
— А что же… Почему бы и не приехать ему?..
— Отец! — вне себя от радости, вскричала Дубравка. И приблизила лицо свое к самым глазам отца, и худенькие, еще отрочески нескладные руки ее, открытые выше локтей, охватили его могучую шею.
Когда же, поцеловав его в обе щеки, она отпустила его, отец добавил многозначительно:
— А возможно… что и ты поедешь к нему!..
Дубравке дались языки. Даже и французский, на котором в их семье никто не разговаривал, а только отец мог читать и которого не изучал ни один из ее братьев, она выпросила себе и словно бы вдруг выпила его весь!
Это сделано было единственно для того, чтобы прочесть «Тристана и Изольду» и «Песнь о Роланде». Этих книг в «вивлиотеке» отца на русском языке не было.
Ей разрешено было также присоединиться к братьям для изучения латыни, и она вскоре превзошла их.
Немецкий же язык и польский не считались в семье князя Галицкого теми языками, которые требовали особого изученья. Оба эти языка усваивались разговорно, как бы сами собою, благодаря постоянному общению с семьею и двором венгерского короля, а также благодаря издревле идущим родственным связям с домами польских князей. Кроме того, при дворе Даниила Романовича было немало чехов.
Необязательный для Дубравки, язык Цицерона и Цезаря для княжичей был признан непременным. Будущие государи, да еще которым предстояло государствовать на рубежах с Германией, с Венгрией, с Польшей и с Чехией — странами католицизма, — как могли они обойтись без этого языка всеевропейских договоров, трактатов, грамот и сношений?
Латинский язык преподавал им и римских авторов читал с ними сам Даниил. Взыскательный учитель сынов своих, он требовал, чтобы латынью они владели столь же совершенно, как боевым конем.
В отличие от княжичей, Дубравку, как девочку, вовсе не утруждали политикой — наукой державного, государственного строенья. Правда, до поры до времени!
Обычно за год или за полгода перед тем, как выдать дочь замуж, когда уже ясно определялось, куда, в какое княжество — русское ли, чужестранное ли — выдадут и за кого, — родитель-государь вдруг как бы спохватывался и принимался наверстывать упущенное в политическом образованье княжны.
Тогда — и зачастую подолгу — государь-отец затворялся с дочерью и здесь, наедине, обязав ее хранить глубокую тайну, обстоятельно и повторно объяснял ей, что встретит она там, в замужестве, и чего от нее ждут для отчизны, для родного княженья, и чего она должна исподволь добиваться там, возле мужа, когда станет княгиней.
Нередко, — а особенно если девочке предстояло быть уведенной в замужество за рубеж, в чужую землю, — эти запоздалые уроки политической мудрости заключались тем, что государь-отец приводил дочь ко кресту: княжна приносила клятву не изменять отчизне и вере и даже там, на чужбине, блюсти первее всего заветы и пользу отца своего, а не супруга.
Близился подобный же страшный час и для княжны Дубравки: ей исполнилось двенадцать лет! А старше четырнадцати-пятнадцати лет княжон редко выдавали замуж: это было пределом!
Но пока княжна Аглая-Дубравка была все еще свободна от державной науки. Меж тем как старшим Даниловичам — Роману и Льву — не только разрешалось, но и прямо предписывалось присутствовать на советах отца-государя, хотя еще безмолвно и еще не на всех.