Сергей Алексеев - Возвращение Каина (Сердцевина)
Многое было забыто в этих хлопотах, многое, что волновало когда-то, уходило в небытие…
Но Аннушка, несмотря на бурные дни, вдруг спохватывалась и тянула Кирилла то на кладбище, чтобы постоять среди цветущей сирени подле камня с изваянием прекрасного лика Варвары Николаевны, то в церковь к лику Богородицы. Или могла неожиданно заявить, что сегодня у нее выходной от суеты и она целый день будет катать по Дендрарию бабушку Полину и слушать ее бесконечные рассказы.
Точно так же она спохватилась, что пропустила уже несколько сеансов у художника и обязана немедленно явиться к нему.
И словно ледяной водой обдала Кирилла: ему казалось, что страшный старик давно ею забыт и вычеркнут из памяти.
Как в первый раз, она вела его переулками и дворами, темными лестницами и коридорами, чтобы вновь оказаться перед битой, разболтанной дверью…
Художник еще больше постарел и пострашнел. Его длинный нос загибался крючком, как у Кощея Бессмертного, а за плечами, кажется, вырастал горб. Он был сердит.
— Девочка, ты совсем отбилась от рук, — вместо приветствия заявил он. — Я не валяю здесь дурака, я работаю! Ты прекрасна и очаровательна, но ты обязана ценить мой труд!.. Ты совсем забыла меня.
Она лишь оправдывалась, виновато лепеча что-то невразумительное. И наконец, прервала его окриком:
— Не кричи на меня! Я выхожу замуж!
Старик только сейчас обратил внимание на Кирилла и, кажется, не узнал его, поскольку тот был одет в камуфляж.
— Замуж… — проворчал старик, доставая холст с незаконченной работой и устанавливая его на мольберте. — Мне все равно, замуж тебе или не замуж… Ты пока принадлежишь мне!
Такое заявление покоробило Кирилла, и то скептически-насмешливое отношение, с которым он входил в мастерскую, мгновенно улетучилось. Он уселся в кресло, на старое место, и сцепил руки. Старик гибким скребком соскоблил на пол только что заготовленные краски на палитре и тут же стал растаптывать их по полу, доставая новые тюбики и надавливая на палитру других красок. Причем разрезал тюбики ножницами с обратной стороны и выкладывал краски щедро, большими сгустками, словно собирался малевать огромное полотно.
Кирилла раздражало всякое его движение, и щедрость эта казалась ему личным вызовом.
— Ты готова? — буркнул старик между делом.
— Я сейчас! — с готовностью ответила Аннушка и стала стремительно раздеваться.
Кирилл не хотел смотреть на нее, однако «чуткий инструмент» — глаза, эти живые существа, самостоятельно живущие в человеке, не повиновались ему…
В ее красоте все-таки было что-то искусственное, и потому она стремилась показать ее, как показывают украшения, нанизывая их на пальцы, запястья, шею — на самые видные места. Она не пряталась, а, наоборот, словно кричала — посмотрите на меня!.. Нет-нет, эта искусственность выпирала наружу, ибо все естественное всегда недоступно глазу и надежно спрятано: жемчуг — в раковине на морском дне, алмаз — в толще породы…
И обнаженный, он уже не мог быть в естественном состоянии.
Она легла на белое покрывало, изогнулась и замерла. А старик, механически обтирая руки о фартук, уставился на нее, и голос его тут же сломался:
— Божественная… Я самый счастливый человек на свете. Я вижу тебя воочию… Надо было состариться, чтобы понять: женская красота — это Алмазный фонд, это национальное достояние…
У него затряслись руки и заслезились глаза. Он хватал кисти, мял в руках и тут же отбрасывал их на пол. И вдруг пошел к ней тяжелым, неуверенным шагом…
А Кирилл оказывался бессилен! Ибо все, что бы ни сделал он, какой бы поступок ни совершил, — все бы было против ее воли и желания!
Он сидел и скрипел зубами, глядя, как старик наклонился над ней, неподвижной и беззащитной, своей грязной лапой поправил ее руку, откинул волосы, чтобы они свисали с кровати, и немного — на сантиметр! — пододвинул согнутую в колене ногу. А кроме волос, ничего не следовало поправлять! Но он поправлял, чтобы касаться ее!
И она позволяла ему…
«Встану и уйду! — вдруг решил он. — Пусть остается здесь, с ним.. Пусть он лапает ее, а я к ней больше не притронусь. Уйду!»
— Ничего подобного я не видел, — таращась на Аннушку, проговорил старик. — Каким же инструментом творила тебя природа? Чем поверяла гармонию? По каким законам создавала совершенство пропорций?!. — он потряс головой. — Я совсем бездарный и бесталанный… Чувствую, мыслю, страдаю — да к чему это? Зачем?.. Когда есть ты! Ты как горящая свеча: горишь — и уже прекрасна! И ничего не нужно делать!
Он все стоял над ней, как вампир над жертвой. Кирилл резко встал и сделал несколько шагов к двери.
И понял, что если сейчас уйдет, то больше никогда не увидит ее!
— Скажи мне имя твое! — вдруг стал допытываться старик. — Как тебя зовут? Я не стану писать его! Я его зашифрую на картине! Скажи! Твое имя узнают только лет через сто, не раньше. Я спрячу его так, что в наше время никто не увидит!
Она молчала, и это было ее ответом.
Кирилл не сразу вернулся на место, а чтобы скрыть свое движение к двери, незрячими глазами пробежал по стенам, по стеллажам с картинами, потоптался влево, вправо и наконец сел.
Не сводя глаз с Аннушки, старик попятился к мольберту и снова стал хватать кисти и бросать их. И в каком-то отчаянии взял краску с палитры пальцами и понес ее к полотну.
Он снова касался ее, только теперь на полотне.
И так теперь будет всю жизнь! Она пока здесь, в мастерской на чердаке, среди хламья, мусора, среди других неизвестных картин, но пройдет срок — может быть, малый, в несколько дней! — холсты с изображением ее прекрасного тела окажутся на выставках, в картинных галереях, в частных коллекциях. Если уже не оказались!.. И вынесенные отсюда на всеобщий обзор, станут достоянием всякого, кто пожелает посмотреть на нее или даже вот так, прикоснуться руками. И всякий ее будет узнавать потом на улице, потому что не запомнить ее невозможно… Как же потом появляться с ней в городе, как жить здесь? Тысячи мужских глаз, тысячи их рук будут знать, какая она без одежд, будут знать и видеть то, что по праву должен знать и видеть только он!
А те, кто купит полотна — можно представить, кто они! — так или иначе купят ее! И за деньги станут обладать ее красотой, смогут ежеминутно, ежечасно рассматривать ее груди с розовыми вздутыми сосочками, ее бедра, живот и этот сакральный треугольник… Они, эти раскормленные, губастые рожи миллионеров, эти бессовестные их глаза — эти сильные нынешнего мира будут желать ее тела, будут мысленно вступать с ней в близкие отношения… А когда эти существа соберутся вместе, тот, купивший ее, станет похваляться — я ее купил!
Можно не знать ее имени, не зашифровывать его в картине, ибо он не будет иметь никакого значения…
Решение у Кирилла созрело внезапно: следовало самому выкупить все картины! Все, где она изображена обнаженной. Старику, должно быть, все равно, кому их продать. И потратить на это все, что есть! Аннушку нужно выкупить из ее прошлого, как раньше выкупали пленных…
Кирилл сразу ощутил прилив энергии и успокоился. Потрясенная мысль не металась в хаосе чувств, а стала управляемой и конкретной. Когда работа закончилась и Аннушка собирала традиционное чаепитие, Кирилл будто между прочим спросил:
— Сколько стоит одна такая картина?
Старик и ухом не повел, плескаясь под краном.
— Он плохо слышит, — сказала Аннушка. — А такая картина стоит примерно миллион.
— Эта — полтора миллиона, — спокойно заметил старик. — Ее уже купил коммерческий банк.
— Ты что, хочешь купить? — засмеялась Аннушка.
— Ага! — тут же согласился Кирилл. — И возить в кармане вместо фотокарточки.
Шутка прозвучала злобно: он не мог скрыть глухого недовольства, распирающего изнутри. Выкупить картины было невозможно…
Аннушка села к нему на колени, взяла за шею, заглянула в глаза.
— Что с тобой?
Он рассмеялся.
— Ничего! — и зашептал: — Попроси, пусть покажет свои картины.
— Попроси сам, — посоветовала Аннушка. — Он это любит!
— Твой жених? — вдруг спросил старик и уставился в лицо Кирилла.
Взгляд был не тяжелый, но какой-то пронзительный, цепенящий, и долго смотреть в его глаза было невозможно.
— Да, это мой жених! — гордо сказала Аннушка, наливая чай. — И у нас скоро свадьба.
— Тебе повезло, — старик смотрел, не мигая. — Будь я чуть моложе, она бы тебе не досталась.
— Покажите картины, — миролюбиво попросил Кирилл, внутренне испытывая глубокую ненависть к старику.
— Не покажу! — заявил он. — Ты не можешь оценить искусства, потому что гордый и честолюбивый человек. У тебя великолепный вкус к женской красоте, к лошадям и оружию. И все.
— Спасибо! — развеселился Кирилл. — Это не так мало. Я вообще решил — дурак набитый!
Старик завидовал ему! И зависть давила его, как грудная жаба: он бы отвергал сейчас всякого, кто был рядом с Аннушкой, потому что желал, жаждал сам быть с ней!
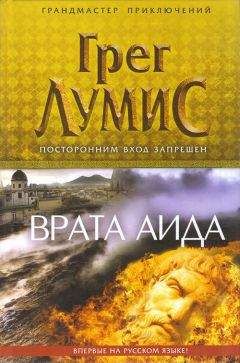

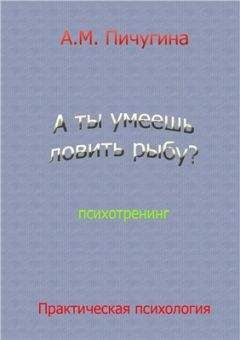
![Марек Краевский - Реки Гадеса[(неполный перевод)]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
