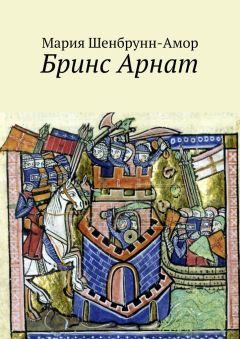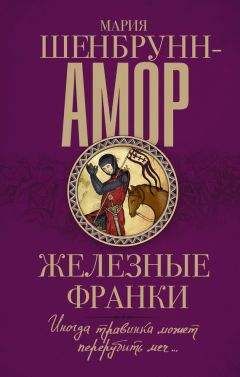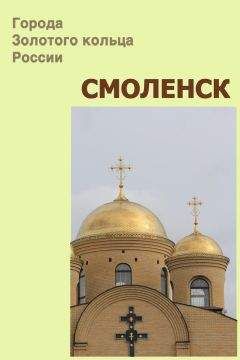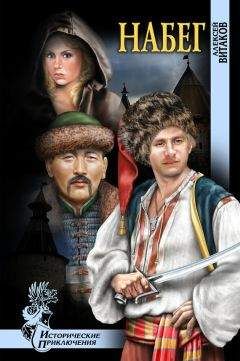Мария Шенбрунн-Амор - Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад
– Мой вассал, – отрезал Рено. – Харим уж точно всегда был фьефом Антиохии!
Король опередил Тьерри, готового снова вскипеть:
– Князь, если мы поможем захватить Харим, вы согласитесь, чтобы на правах вашего вассала им владел кто-либо из людей графа Фландрского?
Сен-Жиль снова взмолился:
– Мессиры, Реджинальд де Сент-Валери сегодня отличился, и мы все знаем его как достойнейшего и верного соратника. Почему бы ему не стать сеньором Харима и вассалом Антиохии? Он ваш человек, граф Фландрский.
Маленький граф Триполийский ничем не напоминал своего шумного и яростного отца, он даже руки к груди прижал, так ему хотелось, чтобы принцы вразумились, договорились, согласились, чтобы вся военная кампания и прибытие в Святую Землю фландрских крестоносцев не остались бесполезными, чтобы погибшие на приступе Шейзара рыцари сложили головы не напрасно. Тьерри пожевал конец собственной бороды, размышляя, не таится ли в этом предложении скрытого урона для его чести, махнул в знак согласия ручищей.
С первым тусклым светом зимнего дня обреченные жители Шейзара обнаружили, что проклятые франджи сворачивают палатки, грузят обозы, строятся боевым порядком и покидают полуразрушенные, лишенные защитников стены города. Безгранично милосердие Аллаха! Аллаху акбар!
А Нуреддин хоть и тяжко хворал, но пока было дыхание в ноздрях его, слово его было закон. Поэтому беззащитный Шейзар по его приказанию был захвачен немедля.
Харим латиняне взяли вместе: настоятельная нужда в этой крепости и желание каждого доказать, что не он – губитель всей затеи, помогла довести осаду до конца. Но после этого Шатильон покинул поход, вернулся в Антиохию с грузом обид тяжелее доспехов, отчего гонора только прибавилось. Победу над Зангидом неподалеку от Тивериады Бодуэн с Тьерри Эльзасским одержали уже без князя Антиохийского. Дошли бы и до Дамаска, но хитрый Нуреддин предложил мир, и, как всегда, у измученных и разрозненных защитников Заморья не хватило дыхания на длительную кампанию.
Франкам по-прежнему приходилось истощать свои силы в непрерывной борьбе за каждый камень, за каждую крепость, обескровливать себя в мелких стычках. А на юге все это время лежал фатимидский Вавилон, истребивший в династических междоусобицах всех своих военачальников и оставшийся беззащитным как устрица без раковины. Рыцарям достаточно было бы явиться в долину Нила, чтобы завладеть этой неимоверно богатой и необъятной империей, но неспокойная Сирия, словно скандальная девка, не отпускающая путника из непотребного дома, удерживала христианских воинов на севере.
* * *Поздней весной, сразу после Вознесения Господня, с попутным караваном в Антиохию возвратилась Изабо. Явилась верхом на отменной кобыле, с новым седлом и сверкающей серебром уздою, на чепраке вился вышитый золотом многозначительный девиз «Во имя любви». На платье мадам де Бретолио пошло не менее пятидесяти локтей травчатого шелка, накидка была оторочена горностаем, широкий подол оттягивали зашитые динары, а четверо слуг едва втащили громадный, набитый добром сундук в отведенную ей на башне опочивальню. И все же Изабо была безутешна. Добродетельные люди судачили, что королевская потаскуха печалилась вовсе не о супруге, геройски погибшем под Шейзаром, а о том, что пресытившийся король отослал ее с глаз долой.
– Скорбеть по мужу, видать, легче, когда полюбовник взашей выгнал! – острый нос благочестивой Доротеи де Камбер дрожал от вони чужих пороков.
Только дама Филомена, вечно отличавшаяся от добрых людей несуразными взглядами, и тут прозвучала фальшивой нотой в общем стройном хоре осуждения:
– Первой восставшего Спасителя блудница узрела, не праведники.
Грануш, единственная позаботившаяся, чтобы уставшую путницу ждала чистая кровать, блюдо пахлавы с фисташками и бадья с теплой водой – смыть дорожную пыль, тут же уткнула руки в боки:
– Ай кник, мадам, чтобы нашей Изабо Спасителя узреть, ей бы не помешало посидеть годик-другой на воде и хлебе в обители со строгим уставом! Или хотя бы вырез на платье ушить!
Констанция на вечное ворчание мамушки не обращала внимания. Оно служило Грануш веслом, которым та подгребала со спасительным плотом своих забот к несчастным, терпевшим крушение на реке жизни. Но многие корили княгиню за то, что та встретила прелюбодейку, словно святую у райских ворот: поселила в княжеском замке и не расставалась с ней. Один сумасбродный князь Антиохийский неожиданно поддержал жену:
– Никто тебе не указ, и чужие грехи – не твоя забота. Мадам де Бретолио тебе как сестра и этого достаточно. Бодуэн не только её прогнал. Он, лишь бы с Мануилом породниться, и от меня отрекся, поклялся василевсу на кресте, что к моему походу на Кипр не причастен и всячески осуждал меня.
Из-за княжьей поддержки добронравным людям пришлось порицать распутную мадам де Бретолио хоть и ревностно, но вдалеке от господских ушей. Но, конечно, они были правы: получившая отставку королевская любовница вовсе не о погибшем супруге и не о собственном прелюбодеянии все глаза выплакала:
– Мадам, ей тринадцать лет! Тринадцать! А мне уж скоро тридцать! – Тридцать и три, если Констанция не разучилась считать, но бедняжке Изабо наверняка сейчас не до математики. – И говорят, она на диво хороша собой!
– Изабо, да его не ее тринадцать лет пленили, а то, что ее дядя – император Ромейской империи, и приданое ее несметное! Бодуэн бы не расстался с тобой, если бы не отчаянное положение королевства!
– Он забудет меня! Жизнь моя кончена! Никогда больше я не буду знать счастья!
– Да что ты несешь, Изабо! Как я горевала по Пуатье, а все же новая любовь настигла меня. Может, настало твое время сочетаться законным браком с хорошим человеком.
На это крепко надеялся и Бартоломео д’Огиль. Предупрежденный Констанцией верный воздыхатель не смел идти на приступ сердца Изабо с обычными своими орудиями: тяжеловесными, как метательные камни, шутками и лобовым, как таран, бахвальством. Зато рыцарь решительно встал на защиту доброго имени дамы сердца – не спуская с мадам де Бретолио восторженных, налитых кровью глаз, громко сипел, сжимая рукоятку меча волосатыми ручищами:
– Клянусь хвостом осла Спасителя, я разрублю напополам каждого, кто не согласится, что мадам де Бретолио чиста и непорочна, как жемчужина!
Но чистая и непорочная Изабо, в которой здравые люди узревали только малоимущую, немолодую, одинокую и брошенную любовником блудницу, презрительно отворачивалась от преданного паладина и в свою очередь норовисто клялась:
– Да я лучше Христовой невестой заделаюсь, чем снизойду до этого краснорожего чурбана!
Мадам Доротея де Камбер согласно кивала крысиным носом: нет, нет лучшего удела для молодых и красивых греховодниц, чем посвятить остаток своих дней покаянию вдали от мира.
– Ах, мадам де Бретолио! Всей душой я поддерживаю ваше намерение! Все в этой бренной юдоли – тлен! Монашество для вас – единственный путь к спасению!
Набожность старой дамы служила окружающим постоянным укором. Мадам отстаивала все мессы, зорко следя за негодниками, норовившими покинуть храм, едва пробормотав «Отче наш», не расставалась с часословом, непрерывно твердила молитвы и псалмы, читала и перечитывала притчи и жития мучеников, ее повсюду сопровождали запах ладана и стук четок. Благочестивая женщина помнила все именины святых и угодников, постилась в дни скоромные и голодала в постные, вела точный учет грехам ближних, а своих и вовсе не имела, и корсаж ее топорщился больше от освященных ладанок, нежели от собственной дряблой плоти. Детей у нее не было, да и откуда они могли возникнуть у праведницы, не забывавшей, что Церковь воспрещает плотские радости в Пост Великий и в Пост Рождественский, в неделю до Троицына дня, а также во все прочие постные дни, и в дни воскресные, да и в канун их, разумеется. И, конечно, во все среды, пятницы и субботы тоже настойчиво рекомендует воздержание. Причащалась же раба Божия Доротея так часто, что даже аббат Мартин как-то укоризненно попенял, что тело и кровь Христовы – все же не бренная пища, чтобы ими до отвала наедаться.
Бартоломео советов мадам де Камбер пугался, багровел, вытирал обильный пот с бритой головы, умоляюще шаркал сапожищами:
– Лучше солнце убрать с небосвода, чем мадам де Бретолио в монастырь заточить! Клянусь на завязках Иисусовых сандалий, один весьма достойный рыцарь счастлив будет сражаться за честь взять мадам в супруги!
Выпячивал грудь колесом и кидал вокруг грозные взгляды, тонко намекая, кто этот достойный рыцарь. Только прежняя безропотная Изабо исчезла. За годы жизни при королевском дворе в качестве любовницы монарха мадам де Бретолио научилась давать отпор как завистникам, так и доброхотам: