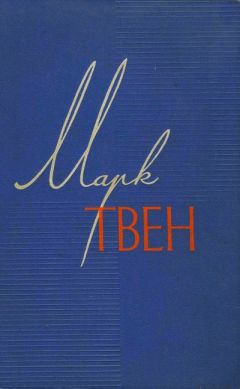Владимир Короткевич - Колосья под серпом твоим
– Слушай, – сказал Загорский спокойно, как равному, – она же верила в тебя. Набогохульствовала в горячке, но все же верила. Она верила, а ты ее так, а?
Икона молчала. Глядела темными глазницами, в которых не было видно глаз.
Постояв, он снова пошел в опочивальню и сел возле жены. Он сидел так и ждал, пока старая нянька Евдоха не подошла к нему.
– Прикажете позвать обмывальщиц, князь?
Он поднял глаза и, словно только теперь что-то поняв, махнул рукой:
– Зови.
Потом он возвратился в молельню, встал перед Спасом и просто, как когда-то покойник отец, спросил:
– Пекло? Ну, пускай берет двоих, если ты не хотел…
В его руках очутилась старая боевая секира – гизавра. И он вдруг запустил ею прямо в темные глазницы с такой силой, что лезвие на три вершка впилось в дерево и задрожало.
– Дрожишь? – спросил он. – Ну, дрожи.
И вышел, закрыв за собой дверь.
И все время, пока он, внешне спокойный, хоронил ее, принимал соболезнующих и носил траур, в душе его жил нестерпимый гнев. Нестерпимый гнев и один вопрос: "За что?" Она ничего не сделала тому, она была более святой, чем святая Ольга, которая кидала людей в яму, а сверху бросала челн, ломавший и крошивший им кости… Вот возлагают венчик в знак надежды получить венец на небесах, а ей безраздельно обещали ад. За что?… Вот после панихиды гасят свечи в знак того, что "жизнь наша, пылающая, как свеча, должна угаснуть, чаще всего не догорев до конца". Но кто же думает о конце в тридцать три года? Ты, чья икона в ее изболевших, прозрачных руках? Ты мог, ты мужчина, ты за всех. А за кого она? За что?… Вот служат требу, и ее лицо повернуто к алтарю. При жизни ты не пускал ее в алтарь… За что? Она женщина. А твоя мать не была женщиной?… А теперь не пустишь в царствие небесное. За что? За то, что она богохульствовала, изнемогая от горя и от любви к человеку, от той любви, за которую погиб ты? "И в землю отыдеши…" Но не перестанешь быть "образом славы Божьей". Если уж такая слава, так к дьяволу ее…
"Господняя земля и исполнение ее, вселенная и все живущие на ней…"
Несчастный колос! Несчастный колос под неведомым серпом. Да и разве под одним?… За что?…
И поскольку на один этот вопрос, лишь на один, только на один, не было ответа, гнев все нарастал. В ад так в ад. И иди ты с твоей хваленой милостью, если ты не мог смилостивиться над одной, одной-единой твоей овечкой. Не над волком, а над овечкой. Может ведь быть так, что и овечка, спасаясь, попробует укусить? Так волкам позволено кусать множество раз, а она попробовала один раз – и ее за это косой по горлу.
…Молельня била закрыта, священник изгнан в Милое, в старую церковь-крепость, самую неуютную и сырую из всех церквей, какие были и его владениях. Вскоре туда же последовали и попы из Вежи, Святого и Витахмо.
– Буду платить вам вдвое, лишь бы духом вашим не пахло ближе, чем за двадцать верст.
Он ненавидел попов, ненавидел теперь бога, ненавидел солдат и жандармов, тех, от которых разит доносом и кровью, тех, что арестовывают людей за настроения и этим сводят в могилу существо, которое никому не причинило зла. Он ненавидел молодого царя, сделавшего так, что людей, дворян, которые отвечают за свои политические взгляды, хватают в их крепостях.
Он закаменел. Он баловал дочь, одарял деньгами, нарядами, драгоценностями. И совсем не интересовался, что она там делает на своих балах. Он знал, что ей принадлежат две тысячи душ и что найдется порядочный человек, который будет любить ее. Что может найтись и непорядочный, он не подумал. Дочь убежала с молодым офицером расквартированного в Суходоле полка…
Пан Данила теперь спал днем, а ночью читал, молча гулял по парку или слушал в музыкальном павильоне "Реквием" Моцарта. Всегда одну и ту же часть – "Лакримозо". Играл, сидя за глухой ширмой, органист, которого привезли из Суходола. Князь слушал с сухими глазами. Нарушать его покой боялись и потому объявили о побеге дочери поздно.
Приступ гнева у него был страшный. До сих пор спокойный, сдержанно-сильный, князь был в ярости, словно хотел сразу выплеснуть свой гнев.
Его дочь! С кем?! С офицером!
И это переполнило чашу его гнева.
– Где?!
– В греко-российском монастыре в Липичах, – ответил Кондратий, молочный брат, единственный, кто не боялся гнева князя.
Ясно. Монахи всегда рады напаскудить ему. Черные божьи кроты!
– Наверно, уже обвенчали, – сказал Кондратий. – Поздно.
– Поздно?! – Крик был таким, что дворец замер от ужаса.- Я им дам "поздно"! Людей! Шляхту!! Мужиков вооружить!!
– Не пойдут, – сказал Кондратий. – Побоятся!
– А меня они не побоятся? – кричал князь – Не пойдут – шляхту прогоню, и пускай подыхает от голода! Не пойдут – каждого десятого в рудники продам! Кондратий, бутылку водки каждому! Мужикам по три рубля! Шляхте по пять! Семьям убитых пенсии! Лошадей! Пушки!
Кавалькада из шестисот человек ринулась на Липичи. Грохотали, подпрыгивая на ухабах, пушки, ветер рвал пламя факелов. И у пьяных людей, скакавших за князем, все возрастал бесцельный гнев, наливались кровью глаза.
Монастырь обложили в полночь. Монахи из-за каменных стен увидели факелы, рвущееся в небо пламя зажженных костров. Услыхали ржание коней. Они ожидали гнева, но не такого.
Игумен вышел на стену и увидел прямо перед воротами расхристанного князя с остекленевшими глазами.
– Дочь… – сказал князь.
– Здесь, – не соврал игумен.
– Открывай ворота, пес.
– Не оскверняйте обители, – сказал игумен. – Монастырь не может отказать рабам божьим, которые умоляют об убежище.
– А гореть твой монастырь может?
– А в Соловки в заточенье не хочешь? – спросил игумен.
Он чувствовал за собой силу государства, силу стен, четырехсот монахов и десяти пушек. Не разучилась еще братия с тех времен, когда монастырь был пограничной крепостью.
– Лизоблюд! – гневно сказал князь. – Холуй петербургский!
– Анафему наложат, – сказал келарь. – Ты, быдло, дзекало недобитое.
– А я вот дам вам анафему! Сводники! По сколько копеек с кровати берете?
– Не оскорбляй бога, арестант соловецкий, – сказал игумен.
– Кто это бог? Ты? Козел ты!
В ответ из-за стен рыгнула пушка.
– Хо-рошо, – сказал князь. – Т-так. Хорошо же вам будет из небес на меня в Соловках смотреть!
Испуганный этим спокойным тоном, игумен хотел было позвать назад неистового Данилу, но тот ушел уже в кроваво-черный мрак. А через пять минут оттуда заревели пушки. Сорок штук.
Стреляли час – не по людям, по стенам. Эконом хватался за голову. Пускай бы били в ворота, их отстроить легко. Нет, бьют по стенам.
…А князь с окаменевшим лицом приказывал пушкарям сыпать двойной пороховой заряд.
– Ничего, не разорвет! Сыпь! Бей!… И вот что – раскалите ядра. Бейте ими по крышам! По крышам!
Монахи вначале отстреливались, потом перестали. Было видно, как они простирали руки к небу, стоя на стенах. В багряном зареве лицо князя стало ужасным…
Пылали щепяные крыши… И вот со страшным грохотом рухнула, упала в тучах красного дыма угловая башня.
Осаждавшие ворвались в охваченный пламенем монастырь.
Монахи не защищались. Отца келаря, который спрятался на скотном дворе, за оскорбление тыкали носом в лошадиный навоз.
Перед воротами, на голой земле, два мужика хлестали отца игумена, предварительно сняв с него куколь и камилавку.
Дочь и ее мужа выволокли за стены монастыря, связали и бросили на разные телеги.
Князю еще и этого было мало. Гнев душил его, тот гнев, от которого он не мог избавиться столько лет.
Страшная кавалькада двинулась назад. По дороге взяли без боя, лишь выломав ворота, католический монастырь и за сутки выпили в нем все вина и ликеры.
Праздновали, стало быть.
Монахи, обрадованные позором конкурентов, сами угощали вояк. Черт с ними, с ликерами! Будут еще. Но ведь пан схизматов "поддержал". И столы аж ломились от яств.
Подступали потом, пьяные, и к монастырю монашек-визиток и грозились взять, но пожалели женщин. Писку много!
…Невесту, когда приехали домой, князь приказал запереть в дальних комнатах, жениха – бросить ручному медведю.
…Князь сидел и думал часа два. Потом приказал привести жениха. Того освободили из мягких объятий медведя, всего вылизанного, розового.
Пан Данила встретил его, сидя за столом, на котором стоял зеленый штоф из дутого стекла.
– Выпей. Полегчает.
Тот выпил.
– Как же это вы? И не спросили…
– Она сказала, что все равно за военного не отдадите.
– Правильно, – грозно сказал Загорский. – От военных, которые жандармов слушают, все злое на земле. Они в пушечки играют, они на рассвете приходят за добрыми людьми. Почему оружие не сложил перед сватовством?
– Гонор.
– А ты знаешь, что их породу когда-нибудь на парапетах цитаделей расстреливать будут? Как собак! За все горе!