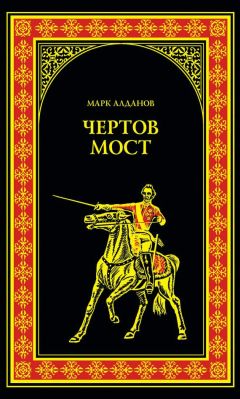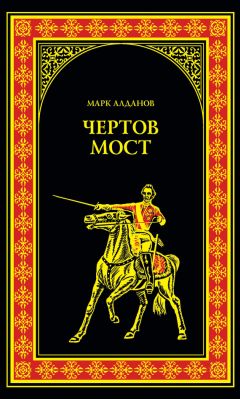Тулепберген Каипбергенов - Сказание о Маман-бие
Лицо Мурат-шейха перекосилось, как будто он глотнул настой полыни.
— О господи… Поистине только этого сраму недоставало моей седой голове… Она же твоя невеста! Или ты не мужчина?.. С какими глазами прикажешь мне явиться пред очи Айгара-бия — просить невесту Маман-бия в жены его слуге? Чего хочешь, безумец? Этой ценой — подольститься к нищему? Или, может, этакой карой — покарать себя?
— Не знаю, как сказать… Я решился, отец. Помогите, отец.
— Поди прочь с моих глаз. Не могу тебя видеть. Урод! Скопец! — закричал Мурат-шейх.
Маман ушел и до поздней ночи бродил по степи. Кажется, его искали… Он укрылся в зарослях турангиля. И думал он со светлой горечью, совсем по-стариковски, думал о том, что, потеряв одну женщину, им избранную, вряд ли он найдет другую, так же, как Оразан-батыр, его отец. Есть такие среди людей, есть среди зверей, есть во всем живом мире, сотворенном всевысшим: не скопцы, не уроды — однолюбы… Думать так было легче. С этой мыслью можно было жить.
17
Последний разговор с Гладышевым не шел у Мамана из ума. Вот какая петрушка… То, как рисковал Митрий-туре, отказываясь от охраны, Мамана уже не удивляло. За его храбростью стояла сила несметная. Удивляло то, как рисковал Гаип-хан, собираясь принять джунгар-ских нарочных. Этот храбрец — несравненный, у матери удой молока унес. Схватить бы его за руку!
Избасар-богатырь ходил по пятам за Маманом, заглядывая ему в глаза. Что, если и нам рискнуть? Изба-cap — не великого ума, но надежен, как скала.
— Скучаешь? — спросил Маман. Тошно. Не смотришь на нас.
— Есть дело как раз по тебе. Езжай в гости… к Ну-ралы-баю…
— К которому?
— В ханский аул.
— Не поеду. Нуралы-бай скряга. Заместо угощенья поведет с собой навоз возить.
— Это нам и надо. Сиди у него невылазно. Слушайся во всем, чтобы он был тобой доволен. И не проспи!
— А что? А что?
— Как только пожалуют к Гаип-хану гости, обязательно он пришлет к Нуралы-баю за мясом.
— Известное дело.
Так вот, отнеси хану сам барашка…
— Зачем? Не буду. Не стану.
— Слушай, что говорю. Если гости знакомые, уйди с миром. Если нет, скачи, не жалея коня, днем или ночью, найди меня, где бы я ни был… И держи язык за зубами, если дорожишь своей и моей головой. Чуешь, что я тебе доверяю? Больше ничего не скажу.
На детском лице Избасара изобразилось страдание. Он ничего не чуял, но помирал от любопытства.
— Когда ехать?
— А разве ты еще не уехал?
Избасар-богатырь ухнул, как филин, и побежал бегом к своему коню, сотрясая землю буйволиным топотом. Для начала недурно!
Далее, не теряя времени, собрался в дорогу и Маман, благо Мурат-шейх не подпускал его к себе близко. Маман поехал к Рыскул-бию.
Как и следовало ожидать, в ауле кунградцев была неразбериха. До дела руки не дотягивались. Клятвенное письмо? А что это такое? С чем его едят? Слыхали, слыхали про почин ябинцев! Тем хуже для ябинцев и для письма.
Рыскул-бий встретил Мамана в растерянности. Бойкий Байкошкар-бий и его люди просидели два дня и две ночи, привязанные к арбе, но ума не набрались, набрались желчи. И понятно, нашлись у них единомышленники, и те тоже озлились. Байкошкар-бий собрал при Есенгельды дюжину джигитов, послал их в степь, подальше от аула, и держал эту бражку, как кулак за спиной. Велено было Есенгельды сыскать дружков среди ктайцев и мангытцев, умножиться сверстниками и напасть, но не на старого беркута, а на Мамана. Побьют смертным боем Мамана, опозорят его, — это и будет зарез Рыскул-бию.
Услышав, чем занят Есенгельды, Маман тотчас поднялся из-за дастархана, за которым с почетом и лаской принимал его Рыскул-бий. Хотелось Маману сказать: и вы жалуетесь мне, ждете помощи, не сомневаясь, что я вас выручу, вы, искавший моей смерти и утешенный смертью моего отца! А в глубине души, даже вот в эту минуту слабости, чего вы жаждете больше всего? Чтобы я погиб… Но Маман сказал не колеблясь:
— Успокойтесь, уважаемый. Я им доставлю такое удовольствие: явлюсь к ним сам.
— Но, сын мой… Ты один-одинешенек. Я пошлю тебя проводить.
— Никого мне не надо! Дайте Есенгельды. Дайте полюбить его, как родного брата…
— Прости меня, сын мой.
— Пусть бог вас простит, уважаемый.
Затем Маман поехал в степь и под вечер отыскал Есенгельды в известном всем охотничьем логу, где укрываться означало то же, что мозолить глаза. Бражка его явно приумножилась. Маман насчитал человек двадцать. Джигиты сидели у костра, жарили фазанов. Но незаметно было, чтобы они уж очень веселились.
Когда подъехал Маман, все вскочили, заметались, прячась за спины друг друга, сбились в кучу, как цыплята, когда налетает ястреб. Лишь Есенгельды стоял, выпятив грудь и подбоченясь; перед Маманом, рослым, не по годам матерым, он казался подростком.
Маман спешился и небрежно отдал ему повод, как слуге или доброму хозяину, к которому был зван в гости. И Есенгельды повод принял и даже слегка поклонился, как вежливый хозяин.
— Давайте здороваться, братья, — проговорил Маман с угрюмой усмешкой, подходя к костру и протягивая руку всем поочередно — но кроме Есенгельды.
Джигиты корчились под его взглядом и от его рукопожатия, но помалкивали. Судя по всему, их разбирало сомненье… Виделась им за ближним холмом детская голова Избасара-богатыря.
«Что ж, подождем», — подумал Маман со злым спокойствием. Сел поудобней, снял с вертела поджаренную тушку фазана и, не торопясь, стал ее есть, обгладывая косточки и похваливая:
— А хорошо этак при случае сойтись, посидеть, отдохнуть душой с самыми близкими дружками, а?
Джигиты стояли как пришибленные. Они наконец убедились, что Маман здесь один против них, двадцате-рых, и это было еще страшней. Пали духом удальцы.
— Ну, я поел, готов встретиться с богом, — сказал Маман. — Теперь бейте меня!
Джигиты засмеялись, словно дружеской шутке. Заговорили вдруг хором:
— Мы что! Мы ничего. Вы не думайте, Маман-ага! Мы — любя… Хотели постращать…
— Ну, так стращайте!
Молчанье. Маман встал.
Никого не трону! Забуду, кого здесь видел. Но чтобы сей же час — все по домам. Пора вам сопли утирать!
Джигиты опять захмыкали, ухмыляясь. А один сказал с веселым облегченьем:
Утрем, Маман-ага.
Есенгельды стоял на отшибе, как будто его это не касалось. И лицом, и манерно изогнутой фигурой он изображал презрение ко всем на свете. Маман подошел к нему. Ты чего добиваешься?
— А ты?
— Хочу воли и мира своему народу. Есенгельды дернул плечом, как капризная девица, показал в оскале мелкие острые зубы.
— Мечтать, что вырастишь мизинец с большой палец, — это все равно что летать во сне на крыльях. Пока жив род человеческий, будет везде и обида, и грабеж, и кровь. Недаром говорят: если бы не нос, глаза съели бы друг друга.
— Это правда, — сказал Маман. — Но о чем ты мечтаешь?
— Избавиться от тебя. А то послушать нас с тобой со стороны: ни дать ни взять — спорят два дурака.
Маман вздохнул:
— Сказать тебе нечего. Жаль… Крутишься, как юла, а не соображаешь, какой тебя крутит ветер! Ветер такой, что шапку снесет вместе с головой.
— Не пугай. Я не Аманлык. Учи Аманлыка. Маман бегло, скупо улыбнулся.
- 'А метишь на его место… Как же ты будешь мне служить такой гордый? Хочешь мне служить? Отвечай честно. Не ловчи!
— Хочу, — сказал Есенгельды неожиданно для всех.
— Чего больше хочешь — служить или убить? Есенгельды не успел ответить. Джигиты заорали
скопом, так буйно весело, будто захмелели от веселья:
— Убить! Убить!
И Маман захохотал вместе со всеми.
Сквозь шум и гам не сразу расслышали близкий топот. Маман прислушался и пустился бегом на ближайший пригорок. Так и есть! На дым костра во весь опор скакал Избасар-богатырь. Маман свистнул, зовя его к себе. Избасар ответил таким свистом, что в ушах задожило. Подлетел, спрыгнул на скаку, облапил Мамана. Конь был в мыле, всадник в поту.
— Все сделал. Навоз возил… отнес барашка… Тише.
Избасар огляделся, увидел в логу, у костра, джигитов и потемнел, но сейчас было не до них.
Гость один неизвестный. С виду — дервиш, заху-даленький, паскудненький такой, одна сивая бороденка. Но видел бы ты, как он одернул коня. Жеребец аж присел на задние ноги.
— Он! — вскрикнул Маман. — Брат… молодец…
— Имей в виду, хан за тобой послал Пулат-есаула. Зовет немедля.
— Не может этого быть… Что ты говоришь!
— А что? А что?
— Знаешь, зачем зовет? Проводить дервиша… — Маман хлестнул себя нагайкой по сапогу и засмеялся зло и страшно. — Вот это подарок. Спасибо, хан. Уж я вас уважу.
Подумал. И еще раз хлестнул себя нагайкой, довольный тем, что придумал. Подозвал Есенгельды. Тот подошел, опасливо косясь на Избасара.