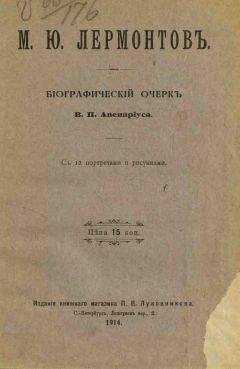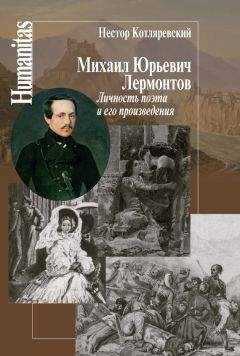Исай Калашников - Последнее отступление
— Не реви! — Дамба вскочил, толкнул кулаком в ее сгорбленную спину. На разные голоса заплакали ребятишки.
Дамба вышел из юрты. Линялой клочковатой шкурой расстилалась степь. Дул ветер. По степи катились шары хамхула. Иногда шары цеплялись за голые ветки золотарника, останавливались. Новый порыв ветра срывал их и гнал дальше.
Подтянув кушак, Дамба быстро пошел к дому Дылыкова.
Еши, увидев его возбужденные глаза, изменился в лице и попятился от дверей, быстро спрашивая:
— Ты что? Ты что?
— Поеду, чтобы вам сдохнуть! — крикнул Дамба, сорвал с головы шапку и бросил ее в угол.
— Поедешь?! Ай, как хорошо! — Еши вынул из-за кушака свою серебряную трубку с табаком.
— На, кури, Дамба. Табак у меня хороший. А я схожу за Цыдыпом.
Дамба набил трубку, высек кремнем искру, запалил кусочек трута и прикурил. Затягиваясь едким дымом, он смотрел на тонкие узоры, выбитые на серебре трубки. Работа Дугара Нимаева. Может быть, не сюда, а к Дугару надо было идти? Забыть обиду, нанесенную его сыном. Сейчас не время для ссор с друзьями.
Но он не пойдет к Дугару Нимаеву. И его сын, и сам Дугар много говорят о русских Советах. У них затуманились мозги. Он не будет слушать ни Дугара, ни Еши. Сам во всем разберется, сам разглядит, где огонек правды, где едкий дым лжи. Он поедет в город. Еши нужно оружие — ему тоже нужно оружие, А куда стрелять, покажет время.
В избу вошли Цыдып и Еши. Цыдып похлопал Дамбу по плечу.
— Молодец! С такими, как ты, мы развернемся. Большевики побегут с бурятской земли быстрее, чем крысы из горящего амбара. Поедешь в город, Дамба, сейчас. Надо спешить. Пара лошадей уже ждет тебя. В городе найдешь Доржитарова. Все остальное он сделает сам. Как видишь, тебе остается немногое — привезти оружие. Но будь осторожен. Попадешься большевикам — не помилуют, с живого шкуру сдерут, — стращал Цыдып.
— Нечего пугать меня, не маленький, — перебил его Дамба. — Что передать Доржитарову?
— Вот это, — Еши подал запечатанный конверт. — Здесь все написано. Пусть он даст подробный ответ на все вопросы. Попроси, чтобы приехал сюда сам.
Вышли на улицу. У крыльца стояла пара лошадей, запряженных в легкий на рессорах ходок. В ходке лежало сено, мешок с овсом.
— Сейчас тебе принесут хлеба, мяса и кирпич чая на дорогу, — сказал Еши, отвязывая от столба повод уздечки коренника. Подошла его жена, подала кожаный мешок. Еши вынул из него берестяной туес:
— Масло! — Затем подмигнул и достал из мешка половину жареного бараньего задка: — Мясо! И хлеб еще тут есть.
— Спасибо, — хмуро поблагодарил Дамба. Он никак не мог отделаться от чувства, что делает неладное.
Кивнув головой Еши и Цыдыпу, он сел на ходок и шагом поехал к себе. Остановился против дверей, взял мешок и вошел в юрту.
— Еду в город, — ответил он на молчаливый вопрос жены. — А ну-ка, ребята, идите сюда. Берите ложки.
Дамба усадил детей прямо на полу, постелив выделанную шкуру. Раскрыл и поставил перед ними туесок с маслом. Потом подумал и вынул мясо, положил его рядом с туеском.
— Ешьте!
— Зачем в город? — спросила жена.
— По делу, — уклончиво ответил Дамба.
— Где мясо, масло взял?
— На дороге нашел, — усмехнулся Дамба, — прямо у нашей юрты.
Дамба ласково погладил ребятишек по черным головкам:
— Баяртэ![10]
* * *Жена вышла провожать. Она стояла на пороге юрты, прикрыв ладонью глаза, до тех пор, пока повозка не скрылась за холмом. Женщина опустила руку, вздохнула, посмотрела еще раз на дорогу, ведущую в город, где она никогда не была, и вернулась в юрту.
Там она села на пол, поджав под себя ноги, и стала мять в руках выкисшую овчину. Ребятишки наелись и теперь играли в углу на рваном войлоке. Насык, толстый коротышка, переваливаясь на кривых ногах, подошел к двери, нажал на нее и вывалился за порог. Мать вскочила и бросилась поднимать сына.
— Эх ты, малыш, рано еще на улицу, — услышала она знакомый голос и увидела Базара, подхватившего ее сына на руки. — Ну, чего кричишь? Кричать не надо, ты же пастух будущий, а пастухи не плачут, малый. — Базар поставил мальчика на пол. — Дамбы разве нет дома?
— Нету, в город уехал.
— Когда?
— Да вот только что.
— Тьфу, черт возьми, не мог я пораньше приехать! А он не сердится на меня, не знаешь?
— Не знаю. Ничего не говорил. Ходил беда сердитый. Все молчал, думал. Днем думал, ночью думал, даже лицо желтым стало.
— А зачем он в город уехал?
— Не знаю, Базар. Ничего он мне не говорит. Пошел к Еши — вернулся на паре лошадей. Ребятишкам мяса принес, масла. Скажи, Базар, а это правда, что большевики людей едят?
— Ерунда. Так говоришь, он уехал на лошадях Еши? Эх, Дамба, Дамба.
— На лошадях Еши. Две лошади, игреневая и саврасая, с белой звездочкой на лбу. А скажи, Базар, детишек в лесу можно спрятать?
— Зачем их прятать? Ты что выдумала? — Базар внимательно посмотрел на женщину.
— Большевики — пожиратели бурятских детей.
— Ты с ума сошла! Кто тебе это сказал?
— Люди говорят.
— Врут, а вы, бабье пустоголовое, слушаете. Какие большевики пожиратели? Разве я пожиратель? Я — большевик.
— Ты большевик? — женщина всплеснула руками.
— Ну, не совсем большевик, — смутился Базар. — Но большевиком буду… Они народу добро несут. Этого у нас еще не понимают такие умники, как твой Дамба. Передай ему: сдружишься с хорьком — вонять будешь, с лисой — воровать, с вороной — падаль жрать. Скажи ему: с миром приходил Базар Дугаров, но рассердился. Не забудь…
9В юрте Дугара Нимаева на старых потниках, застилавших земляной пол, сидели, поджав под себя ноги, мужчины. Их было четверо: Дугар Нимаев, батрак Сампил, Парамон Каргапольцев и Цыремпил Ранжуров. На низеньком столике перед каждым стояли чашки с чаем, посредине возвышалась горка пресных лепешек, испеченных в золе. В стороне от мужчин, за другим столиком, ужинала Норжима. По старому обычаю, женщины должны были есть отдельно от мужчин.
Время от времени Норжима вставала, молча доливала гостям в чашки чай, подкладывала в огонь поленья.
В юрте было тесно и жарко. Цыремпил Ранжуров расстегнул воротник гимнастерки, вытер вспотевшую шею носовым платком. Продолжая начатый разговор, он сказал, обращаясь к Дугару:
— Бурятским казакам тоже жилось не сладко. Кое-кому, конечно, звание это приносило пользу, но бедным было обузой. Помню, собирался я на службу… Коня, шапку, мундир, две гимнастерки, две пары сапог, шинель, шубу, папаху, башлык, две пары шаровар — всего и не перечесть, что требовалось казаку. Пришлось мне с топором и пилой за плечами в Кяхту идти, строить дома купцам, деньги зарабатывать.
Ранжуров незаметно для себя увлекся воспоминаниями и рассказал о своей службе. Взяли его в конце 1904 года, привезли в Читу. Сначала каждодневные учения, рубка лозы, скачки… Когда начались волнения, казаки были приставлены к рабочим, чтобы не допустить забастовок и манифестаций.
Казачьи наряды бродили по территории мастерских, прислушивались к разговорам. Рабочие смотрели на них зло и угрюмо. Цыремпил не раз слышал брошенные сквозь зубы слова, полные ненависти и презрения: «Сволочи! Кровопийцы!» Он втягивал голову в плечи, его жгли обида и стыд. Какой он кровопийца? У него, как и у них, руки черны от мозолей, как у них — пусты карманы. То же чувствовали, вероятно, и другие казаки. Вечерами в казарме тихо разговаривали, передавали друг другу слухи и новости…
Пришел 1905 год. Рабочие взялись за оружие. Над многими зданиями города взвились красные флаги. Казаки не захотели идти против рабочих. Стихийно возник митинг. На нем выступил Виктор Курнатовский, ленинец, друг Бабушкина. Многое понял казак Ранжуров из его слов. Будто в кромешной тьме вспыхнула вдруг перед ним молния и озарила все вокруг. Думы и сомнения, разговоры в казарме и, наконец, речь этого большевика…
Так забайкальский казак Цыремпил Ранжуров стал солдатом революции.
По Сибири под начальством немцев — генералов русской службы прокатились карательные эшелоны, оставляя за собой трупы расстрелянных и повешенных. Цыремпил Ранжуров вместе с двадцатью семью другими военнослужащими оказался на скамье подсудимых.
— Не поскупился суд генерала Ренненкампфа. Всех нас приговорили к расстрелу. — Ранжуров поднял чашку с чаем, отхлебнул глоток, поставил на место, замолчал.
— Ну и потом?… — тихо спросил Парамон. Он боялся, что Ранжуров перестанет рассказывать. Проехали вместе уже не одну сотню верст, а о себе он заговорил впервые.
Ранжуров еле заметно улыбнулся.
— Генерал оказался человеком «милосердным»… Расстрел заменил десятью годами каторги. Заковали нас в кандалы и отправили землю копать. Десять лет, день в день, отбухали. В пятнадцатом году срок кончился, и меня погнали в ссылку, в Иркутскую губернию. Я убежал домой. Из дому — в Монголию. Там работал на русских золотых приисках. Удалось сколотить небольшую организацию, но кто-то донес начальству. Пришлось бежать. Вернулся домой. Но станичный атаман арестовал меня и передал жандармам. Отправили на поселение. — Ранжуров повернулся к Дугару: — Где же люди? Время идет…