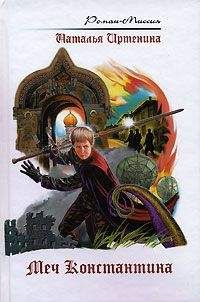Ариадна Борисова - Змеев столб
В каунасском доме на Зеленой горе у него не было кабинета. Матушка Гене решила, что достаточно библиотеки. Но в библиотеку захаживала Сара, бегали внуки, и он, привыкший к кабинетному уединению, не мог находиться здесь больше десяти минут. Теперь матушка Гене ругала себя за неосмотрительность, превратившую наказание в поощрение. Нетрудно было понять: в спальню к ней муж не вернется.
Сидя ноябрьским вечером за вязанием у пылающего камина, матушка убеждала себя, что в зимнем холоде мальчик наконец поймет, как ему нужны семья, мать и тепло родного очага. А если захочет жениться по-настоящему, у нее всегда есть на примете прекрасные девушки…
Отложив спицы с начатыми носками для младшей внучки, она подвергла подробному анализу местные еврейские семьи с незамужними дочерьми. С удовольствием перебрала их, как пачки творога в магазине, и тут старый Ицхак со странно кривящимся лицом, словно собрался заплакать, вышел из своей комнаты.
– Геневдел, сегодня по всей Германии прошел страшный погром, – сказал он глухо. – Страшная ночь…
После Хрустальной ночи все дальние родственники Геневдел Рахиль, жившие в разных немецких городах, эмигрировали кто куда. В Литву никто не приехал, хотя в Каунасе, по мнению матушки, было относительно спокойно. Национал-социалисты поднимали головы по всему миру, а к «своим» таутининкам евреи привыкли. До погромов тут, по крайней мере, не доходило…
Она видела, как муж старается вдохновить и успокоить сыновей, шутит с невестками, играет с внуками – другим не понять, сколько сил вкладывается отцом и дедом в сияющий домашний оптимизм. Матушку между тем коробило, что перед нею, женой, несмотря на раздельные нынче спальни, – ведь она ему жена перед Всевышним?! – несмотря на скрытность, всегда водившуюся в Ицеке, он перестал стесняться и не прятал своих истинных настроений. Она стала чаще заходить в его логово, отвлекая от приемника под вымышленными предлогами, и всякий раз с легкой оторопью отмечала, что он сидит мрачный и отрешенный, будто ищет подтверждения главному страху, нагнетает его и находит в этом какое-то неприличное удовлетворение.
«Мужчина стареет, когда ему нечего скрывать от жены, – горько думала матушка Гене и, переключаясь на мысли о сыне, смотрела на заснеженные липы за окном. – Весной мальчик точно приедет».
В марте липы ожили, а матушка, напротив, оцепенела. Старый Ицхак принес из приемника весть, что Литва без сопротивления отдала нацистам Клайпеду. Правительство лицемерно молчало, газеты печатали пошлую ерунду, но все уже знали: на линкоре «Дойчланд» туда в сопровождении эскадры боевых судов самолично пожаловал фюрер. Стоя перед ликующей толпой на балконе драматического театра, он выступил с речью и принял военный парад.
Матушка Гене поверить не могла, что те самые люди, с которыми она мирно соседствовала, покупала в магазине одежду, разговаривала о погоде и ценах, кому верила в долг – и не раз! – эти люди в экстазе кричали «Хайль Гитлер!», присягая на верность самому страшному на земле человеку с черной «бабочкой» под носом и глазами бешеного пса…
Дьявольские руки рейхстага ощупывали мир, как поверженную женщину, лезли дальше и дальше: оккупировали Прагу, забрали у Литвы клайпедскую землю, милостиво предоставив ей за трусость доступ к порту… Подлый Мемель… бедная, несчастная Клайпеда!
Из-за опасной близости вермахта в маленькой республике встревожились даже самые закоренелые оптимисты. В Клайпедском крае евреев, по слухам, не осталось ни одного, шла молва о кошмарных погромах по новой границе, и литовские власти наконец-то ввели закон о чрезвычайном положении.
Матушка машинально занималась хозяйством и домом, следя, чтобы все шло по установленным ею правилам, но не жила. Жить не давал ей вопрос «Почему?!» Почему она не легла поперек двери на пороге, когда мальчик уходил из дома? Почему старый Ицхак по-отцовски твердо не настоял на отъезде сына со всеми? Почему сам Хаим не почувствовал опасности, впитавшейся в кровь гонимого еврейского народа? О, вечный галут[39]!..
Плача о сыне, матушка суеверно боялась думать, что он, может быть, спасся, и так же боялась мысли, что он убит. Она тихо удивлялась, как старый Ицхак способен жить, словно ничего дурного не произошло, и мир в его приемнике живет по-прежнему, выковыривая крупицы радости из горы неприятностей… И все едят, спят, разговаривают, смеются – живут!
Матушка похудела, глаза ее постоянно были красными и опухшими от слез. Опасаясь, как бы она не вылила в слезах все свое тело, старый Ицхак признался, что Хаим с женой уже несколько месяцев находятся в Каунасе.
Пятью минутами раньше матушку посетило жуткое видение, она плакала в спальне, представив сына в руках разъяренной толпы, поэтому не сразу поняла, о чем говорит муж. А когда поняла…
– Почему я в этом доме узнаю все позже всех!!! – закричала она так громко и яростно, что дрогнули стекла в окнах, и любимая матушкина вазочка богемского стекла, покатившись с подоконника на пол, разбилась.
Матушка села, – слишком много свалилось на ее скорбные плечи, – счастье (сын жив!), медленно истекающая из сердца боль, неистовая обида и невыносимый гнев. «С женой», – запоздало донеслось до нее с лукавым эхом. Она уже выбросила в крике последние силы, а гнев разрастался внутри, и, чтобы не лопнуть, она с щедро заправленным горечью чувством пнула ножку стоящего рядом стула, опрокинув его. За жизнь сына теперь можно было не беспокоиться… Мерзавец предпочел не показаться на глаза матери и привез с собой в Каунас эту!..
– Пусть он не смеет здесь появляться, – сказала она, проглотив слезный ком в горле. – Тем более – со своей «самоварщицей».
– Мария очень хорошая и красивая, – дерзнула возразить дочь. – Если б ты посмотрела на нее всего один раз, она бы тебе понравилась. Мария похожа на принцессу Изольду из оперы Вагнера, помнишь, мы слушали в Лейпциге? А еще – на Грету Гарбо. Только волосы рыжие… За что ты не любишь Марию, матушка?
Значит, Сара ходит к ним… Так вот куда она почти каждый день ходит! Матушка Гене лишь теперь осознала участившиеся отлучки дочери.
– Мне не за что любить содержанку твоего брата, – бесцветно ответила она и ушла в спальню размышлять о бесчестности старого Ицхака и Сары.
Самым послушным ребенком в семье всегда был старший сын, похожий на родственников Геневдел Рахиль. В его набожности и неукоснительном следовании заветам Творца, неколебимо ведущим к праведности будущего цадика[40], она находила утешение гордости, попранной мужем и младшими детьми. Однако именно он, ее первенец, принес матери одно из самых позорных известий, что ей довелось услышать в последнее время.
– Матушка, я не хотел говорить, но моему терпению пришел конец, – начал сын сдержанно, пряча глаза. – Мы не стали возмущаться, когда отец изъял крупную сумму денег из общей кассы, из-за чего компания понесла большие убытки. Он дал взятку в охранке, чтобы Хаима не посадили в тюрьму… Но теперь все еще хуже, и люди смеются над нами: брат работает в третьесортном ночном кабаке, у которого очень плохая репутация. Хаим поет там песни на заказ для офицеров и продажных женщин… Это позор… Мы пытались объясниться с отцом, – только он может воздействовать на Хаима и уговорить его вернуться в семью… Отец не стал нас слушать! Он рассердился и сказал, что ему не стыдно и что Хаим – единственный из сыновей, в ком есть самостоятельность!.. Матушка, пожалуйста, повлияй как-нибудь на отца… Я понимаю, он его любит, Хаим – младший… Но ведь и отцовской любви существует разумный предел… Неужели вся наша семья должна страдать из-за одной паршивой овцы?!
Материнское сердце молчало. Сердце было уничтожено. Матушка Гене не пришла в бешенство, не закричала. Она не хотела знать о преступлениях сына. Она больше ничего не хотела о нем знать. Дальше кабацкого дна Хаиму некуда падать, разве что в ту же тюрьму… А довела его до потери человеческого облика подлая, коварная, развратная женщина!
Потаенное ожидание возвращения блудного сына не то чтобы перегорело, – нет, усохло слезами, отвердело, как камень, и спряталось вместе с болью глубоко в сердце. Она решила изгнать мысли о нем до неопределенных времен… Бесполезно разговаривать со старым Ицхаком, таким же бесстыдником, как Хаим.
Она нашла дочь в комнате отца, где они вдвоем слушали музыку у ненавистного приемника. Игнорируя вопросительный взгляд мужа, матушка Гене сказала убийственно спокойным голосом:
– Сара, если ты еще раз пойдешь к кабацкому певцу и его «самоварщице», я тебя прокляну.
Глава 8
Кабак
Маленьким рестораном, точнее, кабаком, владел некий П. Я., которого никто никогда не видел. Управляющим был блестящий русский человек по фамилии Сенькин. Блестящий в буквальном смысле, с головы до ног: в щедрой улыбке в обоих углах рта вспыхивали золотые фиксы, из-под оранжевой ливреи на рукавах сверкали запонки с фальшивыми бриллиантами, и все это великолепие отражалось, сияя, в лакированных ботинках. Блестящий костюм Сенькина, тем не менее, необычайно шел ему.


![Алина Борисова - По ту сторону Бездны[СИ]](/uploads/posts/books/1064/1064.jpg)