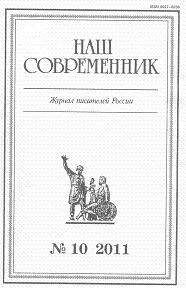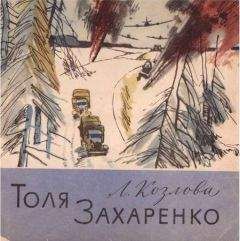Чалдоны - Горбунов Анатолий Константинович
Увидел Ермака и Кучума, бегущих ленивой рысцой по берегу Ледянки, налились глаза кровью. Ударил в гневе передним копытом по березке, как топором срубил. Прижали уши удалые медвежатники и юркнули под крыльцо косарни: свяжись с дураком, отхватишь хозяйского бича. Недавно ради забавы кобели чуть не загрызли телку, до сих пор бока побаливают от плетенной в елочку сыромятины.
Рыжик подошел к обедавшим под открытым небом пастуху и пастушке. Выклянчил сдобренную сольцой корочку хлеба и, обмахиваясь хвостом, скороходью отправился к стаду, спрятавшемуся от набозульного овода под навесом.
Со стороны бесконечных зыбких болот нанесло дым. Луговых пташек охватила тревога — засвистели испуганно, запорхали с кустика на кустик.
—
Отцу пора бы наведаться, — заволновалась Полинка. — Хлебушка на зубок осталось.
—
Сенокос держит, — успокоил Георгий. — Не пропадем, полмешка муки на лабазе.
Из-за утеса неожиданно вынырнул вертолет. Сделал круг и сел. Из кабины вышел майор милиции, вежливо представился и попросил предъявить документы. Внимательно изучил их и, косясь на растерянную Полинку, отозвал Георгия в сторонку.
—
Сгорели Недобитки, а вместе с ними и база леспромхоза. Один ваш дом остался цел.
—
Родители-то девушки хоть живы? — прошептал ошарашенный черной вестью Георгии, пропустив мимо ушей слова о загадочной базе.
—
Вероятней всего, погибли. Лошадь, скот пасутся, а хозяева как в воду канули… — обрисовал обстановку майор милиции и, не прощаясь, направился к вертолету.
Георгий обнял любимую:
—
Крепись, ненаглядушка…
И, ничего не скрывая, поведал о постигшем горе. Полинка побледнела, прижалась к нему осиротевшим птенчиком и беззвучно заплакала.
Ни свет, ни заря оседлали коней и поскакали в Недобитки. Охранять стадо остались бык Рыжик да Кучум с Ермаком. Умные лайки голодными не останутся. Мышей — вдоволь. Черника в бору поспела — тоже подспорье.
В дороге заморосил дождь, а при подъезде к Недобиткам разошелся всерьез.
Услышав о беде в родном гнездовье, потянулись кулацкие недобитки — Кормадоновы и Москвитины — на свою историческую родину, как дикие гуси в повесенье на милый север. Понаехало — притулиться негде, но всем нашлось место под крышей, никто не остался обделенным сердечным теплом.
Дождь лил, не переставая, огонь в тайге приседал все ниже и ниже и, наконец, бессильно распластался по земле горючим дымом.
Пождали, пождали родные Пелагею и Емельяна и справили по ним тризну.
Бывшая учительница начальных классов Анфиса Ивановна Кормадонова, недавно вышедшая на пенсию, спросила у Георгия и Полинки:
—
Не выгоните, если к вам переберусь жить? Одна как перст. Никто в городе не держит.
—
Только рады будем, тетя Анфиса, — первый раз за все время улыбнулась Полинка.
—
А я чем хуже? — обиженно пробасил Евлампий Федорович Москвитин. — Жена померла. Дети в Чечне лежат. В панельном бараке радиацию хлебаю, того и гляди переработают на ракетное топливо.
Молодые и пожилые кулацкие недобитки оживились, заговорили о новой деревне.
—
Попустимся, заселят отчину пришлые: вода чистая, земля не отравлена…
—
Чем заниматься будем?
—
Жить!
Порешили после будущего реколома строиться за Росью, на месте когда-то съевшей себя коммуны, где земля жирна и лес богат. Полинка предложила назвать новую деревню Иволгами — в память о солнечных птицах, разоренных в березовом распадке.
Не успели пастух и пастушка нарадоваться дорогим гостям — мокрец под забором распахнул свои белые глазки и небо распогодилось. Разлетелись кулацкие недобитки в разные края до загаданного весеннего половодья. Остались тетка Анфиса и дядя Евлампий приглядывать за хозяйством, пока Георгий и Полинка заняты стадом. Дел — куча. Тут еще сенокос на пятки наступает. Хорошо, что под завозней наготове конные сенокосилка и грабли.
—
Стара мельница, да не бездельница, — подшучивает над бывшей учительницей седой чалдон, любуясь, как та ловко управляется с коровами и русской печью.
—
Ты и сам кого хошь за пояс заткнешь, — не остается в долгу тетка Анфиса. — Зорька еще в росе купается, а у тебя уже полная лодка рыбы…
Утром пастух и пастушка приезжали помогать старикам готовить сено. Возвращались на косарню поздно вечером, когда над пастбищем, задевая верхушки деревьев, повисали на невидимых ниточках крупные голубые звезды. Сметали копны в стога и взялись городить загон. Навозили жердья из не тронутого пожаром ближнего перелеска, переплетают прогонистые пряслины прутьями краснотала, ведут разговоры.
Дядя Евлампий, ездивший недавно на почту в Еловку, возмущается:
—
Обесхлебили мужики. Колхозную технику по ветру пустили. Манны небесной ждут. Ни малых, ни пожилых мир не берет. Возле памятника председателю комбеда товарищу Мышкину табунятся, допросы с пристрастием друг другу чинят: кто ему руки по локти алой краской вымазал? Хоть бы лицо идолу от птичьего помета водой из лужи ополоснули.
—
Митингуют, глотки рвут, — перекрестилась тетка Анфиса. — А поля пустуют. Вот скупят их слуги народа за бесценок и крепостное право узаконят.
—
Ну, хватила, девка, через край, — подозрительно огляделся по сторонам дядя Евлампий.
Дни бежали вприпрыжку навстречу северной стуже, как молодые крохали вниз по быстрой Ледянке, напуганные ястребом. Все громче и громче жужжат в пропахшей можжевельником тишине медные веретешки листопада, наматывая на себя прозрачную паутину.
Георгий и Полинка в назначенный по договору срок перегнали стадо в Недобитки. Кобели и бык Рыжик оказались старательными караульщиками. Ни одной головы не пропало! Скот за лето отъелся — заматерел и лоснился.
Представитель с Угрюма остался доволен:
—
Будет зимой на столе у приискателей добрая говядинка!
Рассчитался честь по чести и уплыл на груженной скотом и сеном барже за дремучие туманы, чтобы вернуться на следующее лето уже с другим стадом молодняка во главе с быком Рыжиком, так невзлюбившим Ермака и Кучума за опасную выходку с телкой.
Вечером пастух и пастушка вышли на крутой берег проводить тихо падающее за далекие хребты солнце. Она, зардевшись от смущения, прошептала:
—
Я ведь понесла, Гоша…
Пролетавший мимо ветерок услышал ее тайные слова и мелкой золотой рябью рассыпался по стремнине:
—
С недобитком тебя, Рось, — с хлебопашцем, рыбаком и охотником!
Счастливый Георгий жарко обнял юную жену, оба замерли, пристально вглядываясь за реку, где мерещились им поющие иволги.
Широка, глубока Рось. Нет ей, кажется ни конца, ни начала. Сколько раз уходили и возвращались на ее берега русы, знают Господь, да нашедшие последний приют в вечной мерзлоте могучие мамонты.
Однажды, ведомые непонятным властным зовом, Георгий и Полинка пошли на пожарище Москвитиных — вдруг найдут какую-нибудь вещицу на память о сгоревших. Копаясь в пепле, наткнулись на икону Божьей Матери. Была она целехонька и чиста! Смотрит жалостливо. На лике застыли две огненные слезинки. И как ее не заметили работники милиции?! Всё тут перерыли на сто рядов, так и не разгадав причину трагедии.
Только поставили пастух и пастушка древнюю икону дома на косячок — огненные слезинки на лике Божьей Матери исчезли.
Улыбнулась всем и снова опечалилась.
ИГРУШКИ
Быль
Мастер, Трудный, Смешила и Продавец — сорокалетние мужики. С детства живут в одном околотке. Мастер и Трудный кормятся тайгой. Смешила ишачит на заводе. Продавец — свободный художник: торгует на набережной Ангары глиняными медведками, благодаря которым окончательно обнищал.
—
Эх, набрать бы черники, да продать… — горько вздохнул несчастный медвежатник. И подкатился к Мастеру и Трудному через покладистого Смешилу, тот и сам был радешенек сходить хоть раз в жизни в серьезную тайгу.