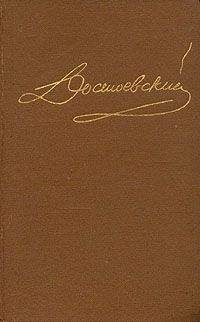Михаил Филиппов - Великий раскол
— Теперь уж улика налицо… порох, аль селитра от Морозова к свейцам.
Никон вышел из экипажа и подошел к бочонкам, лежавшим на пушечном дворе.
— Топор! — крикнул он.
Кто-то из толпы подал топор.
— Рубите один бочонок, — обратился он к народу.
Выступили Волк, Лисица, Жеглов и Нестеровы.
— Рубить нельзя, — закричал Волк, — взорвет.
— Рубите, — внушительно обратился вновь Никон к толпе.
— Всем жизнь-то дорога, — раздались голоса.
— Так я сам бочонок разрублю! — крикнул Никон, — схватил топор и направился к бочонкам.
Народ отхлынул от бочонков на огромное расстояние.
И воеводу взяло сомнение.
— Святейший архипастырь, а коли взорвет? — сказал он, дрожа от ужаса.
— Уйди, князь, а я помолюсь Богу, раскрою бочку и ложь!.. Отойди, пока я тебя не покличу.
Воевода удалился на довольно большое расстояние.
Никон разрубил дно одного бочонка и высыпал оттуда золу.
Он начал делать знаки, чтобы воевода приблизился.
Князь Хилков утвердил, что в бочонках зола, а не порох и не селитра.
— Это крамольники, воры, гилевщики сделали, — заметил Никон, — чтобы раздуть смуту. Теперь идем к народу и разоблачим их.
Гилевщики же, видя, что их выдумка не удалась, начали в народе мутить, и раздались голоса:
— Чародейство.
— Волшебство.
Вот почему, когда к народу приблизились Никон и воевода, многие в толпе шептались:
— В Волхов, с моста.
— С башни.
Но гилевщики уж значительно потеряли в доверии массы, и многие из народа бросились к бочонкам. Удостоверясь, что там зола, они начали разбивать и другие бочонки и, таким образом, в полчаса, не более, все они были раскрыты, при громком смехе большинства народа.
— Это обман…
— Злой умысел.
— Переполох гнусный.
Раздались грозные голоса:
— Долой гилевщиков… Все один обман.
При этих криках главные гилевщики заблагорассудили поспешно удалиться.
Несколько дней спустя Никон потребовал к себе главарей мятежа, — те значительно присмирели, и он посоветовал отпустить Соловцева в Москву.
Гилевщики согласились, и Жеглов отъезжающему сказал:
— Это дело не я затеял, я сижу в земской избе неволею, взяли меня из цепей миром; а если бы меня земские люди не взяли, то было бы еще хуже: я унял смертное убийство и грабеж и датского посланника не дал до смерти убить.
XXV
Грозная кара
В половине апреля по московской дороге к Новгороду двигалась небольшая рать, предводительствуемая князем Хованским.
Князь остановился у Спаса на Хутыне, разбил шатры, расставил часовых и послал в Новгород стрельца в земскую избу, с объявлением, чтобы все ратные новгородские люди явились к нему, а город сдался бы ему беспрекословно.
Едва посол уехал, как к князю от Жеглова подали письмо, в котором он уведомлял, что гилевщики готовы встретить его, князя, хлебом и солью, но с тем, чтобы впредь в Новгород присылались новгородцы, знающие их обычаи. Письмо он заключил: «Никон и Хилков в мире пускали слухи, будто царь послал вешать и пластать без сыску и очных ставок и теми речами в миру чинят великое сумнение и смуту».
В тот же день явился в стан князя Федька Негодяев и упросил отправить его в Москву, для объявления от Новгорода покорности.
Между тем, узнав о прибытии от царя рати, стрельцы и другие гилевщики собрались в земской избе.
Мятежники потеряли головы: они поняли, что гибель их неизбежна.
Все собирались уж идти с повинною к князю, но выступил Лисица; он обратился к мятежникам:
— Мы должны стоять за свои обычаи; не нужно нам чужих воевод и митрополитов; вольности Великого Новгорода пущай возвратят нам. Пущай будут наши посадники, наши головы!.. Коли не наша сила идти против царской рати, заберем наше добро, народ, оружие, распустим знамена, ударим в барабаны и пойдем во Псков — там тоже гиль и смута, будем там биться за свои вольности; лучше смерть, чем позорно быть рабами бояр и боярской расправы…
— Идем во Псков!.. Лучше смерть!.. — раздались голоса, но один из стрелецких голов выступил и крикнул:
— Полно мутить мир, и так уж довольно мы нагрешили… будут нас теперь только кнутовать, а тогда и вешать и пластать. Не слушайтесь Лисицы и Волка — это воры и им мало виселицы… Кто верит в Бога — за мной с повинной к Хованскому с хлебом и солью, а остальные делайте, что хотите.
Стрелецкий голова вышел из земской избы; большинство гилевщиков за ним последовало.
На другой день князь Хованский, при колокольном звоне, с барабанным боем вступил в Новгород и отправился к Софии. На паперти церкви Никон со всем духовенством, с воеводою и с новгородскими выборными встретил его с крестом и святою водою, а новгородцы поднесли ему хлеба и соли.
Из Софии Хованский отправился в митрополичий двор и тотчас разослал своих ратников овладеть пушечным двором, земскою избою, а там распорядился об аресте главных мятежников.
Оговорено более двухсот человек, и не только все тюрьмы были наполнены, но и другие занятые для этого помещения.
На другой день весь митрополичий двор наполнился семействами, т.е. женами, отцами и детьми арестованных, и плач был невообразимый. Они требовали митрополита; Никон вышел к народу; тот стал умолять, чтобы узников выпустили из тюрем на его поруки.
Никон обещался просить об этом князя и спустя несколько минут вышел вновь и объявил, что князь на это согласился, но с тем, чтобы главные несколько зачинщиков остались под стражей.
Народ пал ниц, целовал руки, ноги и одежду митрополита.
Новгород, впавший было в уныние и отчаяние, ожил, и тут злоба на главарей-гилевщиков разразилась во всей силе, только и слышно было в городе:
— Им мало плахи…
— Четвертовать их…
— Жечь живьем…
В тот же день Хованский в земской избе, в присутствии воеводы, князя Хилкова, приступил к сыску или к следствию.
На почетном месте сидел датский посол, рядом с ним находившийся при нем толмач, он должен был обвинять Волка.
Князь приказал ввести его.
Два стрельца, в полном вооружении, ввели подсудимого: это был высокий, плечистый, белолицый блондин с прекрасными голубыми добрыми глазами. Русые его волосы большими прядями падали на лоб. Он был в красной рубахе, припоясанный, и поверх нее висел на плечах из тонкого светло-коричневого сукна кафтан с золотыми пуговицами. На руках и на ногах у него звенели цепи.
Войдя в избу, он тряхнул русою головою, перекрестился образу и поклонился с уважением, но с достоинством присутствующим.
— Повинись, Волк, во грехах своих и в воровстве, — обратился к нему князь Хованский.
— Во грехах покаюсь, а воров здесь нетути: новгородцы честные христиане и ворам николи не были, — возразил Волк.
— Одначе, посла датского ты избил и ограбил, — заметил князь.
— Каюсь… пьян был; все возвратил на другой день послу.
— Кажись, ты начал смуту? — продолжал допрос Хованский.
— Хоша бы и я… На Никитской я остановил толмача, а у креста я ссадил посла с коня, да и я его оттузил знатно.
— За что, разве тебе что ни на есть злого сказал посол?
— Эх князь, зачем такой спрос? Знаешь и ты, что посланник здесь не при чем, а смуту, гиль, сбор вызвали все те ваши боярские порядки, да горе Великого Новгорода.
— Ты говоришь горе Великого Новгорода? Был у вас воевода князь Урусов, послали вы челобитную царю, и он дал вам князя Хилкова, чего же вы еще хотите? К тому за вас же и псковичей царь уплачивает свейцам: обратили они многих из посадских ваших людей в лютерство и требует их теперь свейский король. Велел царь выплатить за этих людей сто девяносто тысяч рублей: двадцать деньгами, а остальное хлебом. А вы производите смуту и воровство.
— Эх, боярин, не тебе говорить, не мне слушать… Благодарны мы за это, но оно вольности нам не дает. Великий Новгород искони имел и своих посадников, и своих выборных владык. Наш владыка был такой же, как московский патриарх, а все северные страны были наши до Соловок. И пока были мы слободны, вели мы свою рать и на ливонцев и свейцев, и трепетали нехристи при имени нашем, а ладьи наши шли по морю, как по Белоозеру. Пришел царь Иван Грозный, разрушил нашу вольность, снял вечевой колокол и посадских людей, гостей и жильцов наших или перерезал, или разослал по чужим областям, а земли и дома наши роздал своим боярам, дворянам и боярским детям. Плакали и стонали мы в неволе, пресмыкались и нищенствовали на чужбине. При Годунове и самозванцах мы возвратились восвояси, стали править свои земли и дома, и все заграбленное нам возвращено, а тут пришли свейцы и забрали нашу землю, и в пленении была наша великая мать — земля до вечного докончания[19] столбовского. Возрадовались мы, что царь православный будет нашим царем, что вновь мы станем на страже у царя супротив ливонцев и свейцев. А тут нам наслали из Москвы и воеводу, и боярских детей: приказные стольники стали чинить суд и расправу… стрельцы и казаки наводнили все города наши, а земские и посадские люди и наши головы сделались только мытарями: ставьте-де на правеж наш же народ. Было скверно при свейцах, но те наших вольностей не трогали, — только в веру свою крестили; а теперь бояре нас и перекрещивают[20], да и св. Софию хотели разрушить.