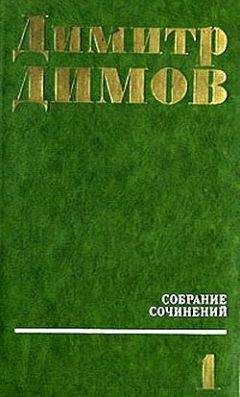Евгений Федоров - Хозяин Каменных гор
— Вот оно, царство-государство господина Демидова. Ох, и тяжела его длань!
Но до заводов было еще далеко, и пришлось остановиться в густом лесу, в котором гулко раздавались стуки топоров. На вопрошающий взгляд Радищева ямщик пояснил:
— Демидовские курени, жигали тут уголь для заводов жгут! А сейчас лес рубят.
Вскоре показались и костры. Густой смолистый дым, клубясь, поднимался к небу. Потянуло к теплу. У костра, у которого остановились, топтались дровосеки, одетые в рвань. Возок остановился у огнища. Радищев сошел с саней. Усатый унтер держался поодаль, устроившись у другого костра.
— Здравствуйте, — обращаясь к мужикам, заговорил Радищев.
— Здорово, барин, если не шутишь! — хмуро ответил бородатый дровосек в рваном полушубке и стал ворошить сучья в костре. Смолистые сосновые ветки затрещали веселее.
Ямщик снял меховые рукавицы, захлопал ими и шумно засуетился:
— Эй вы, удальцы, потеснитесь, дайте проезжим погреться! Замерзли, экий мороз, до костей пронял!
— Мороз известный, уральский: он и крепит, и бодрит, и слезу выжимает! — Мужик повел плечами и уступил Радищеву место у огня. — Садись, господин, отогрей душу, небось к костям примерзла! — В его словах прозвучала нескрываемая ирония.
— А ты откуда знаешь, что у меня душа примерзла? — думая о своем душевном состоянии, спросил Александр Николаевич.
— По себе сужу, господин! — скупо улыбаясь, ответил углежог. — От хорошей жизни да от енотовой шубы совсем застыл, — показал он глазами на свою рвань.
— Аль худо живется? — участливо спросил его Александр Николаевич.
— Куда уж хуже! Мы — приписные, доля наша известная, Работы — прорва, а брюхо тощее, зато батогов да плетей вдоволь!
Ямщик покосился на жигаля и сказал:
— Однако ты смел! Гляди, вон там унтер сидит да поглядывает сюда.
— Смелости нас батюшка Емельян Иванович научил, а унтеров мы перевидали, когда каратели приходили на село! — Мужик поежился и сказал сердито: — Все едино плохой конец: дома женка с малыми детьми от бесхлебицы мрет, а сам я готов на осину!
Радищев понаслышке знал о приписных крестьянах, но никогда с ними не встречался и поэтому заинтересовался.
— Скажи, любезный, — обратился он к дровосеку, — велик ваш заработок от работы?
— Ух, как велик! — хрипло засмеялся мужик. — Животы подвело. Положено приписному за работу пятак в день, но кто его видел? Штрафы да плети, пожалуйте, вволю! Эх, барин, горька наша жизнь! Ничего нет горше! — с тяжелым вздохом вырвалось у него. — Нам, дровосекам и жигалям, горько, а тем, кто на шахты попал, и того хуже. А куда пойдешь, кому пожалуешься? Мужик — тварь бессловесная. Кто ему поверит?
У соседнего костра поднялся унтер и, похлопывая руками, приблизился к Радищеву:
— Ну и морозец!
Дровосек замолчал, с беспокойством поглядывая на Александра Николаевича; его сверлила беспокойная мысль: «Пожалуется барин аль нет?»
Однако проезжающий ни словом не обмолвился о дерзком рассуждении мужика. Унтер повертелся и снова удалился к другому костру. Радищев спросил лесоруба:
— А на деревне как живут?
— Какая там жизнь! — безнадежно махнул рукой мужик. — Земля отощала, скот вывелся, и навозу нет, оттого и грунт плох. Хлеба чахлые, до покрова еле-еле хватает, а потом кору гложем. Заела барщина, дыхнуть некогда!
Приписной помолчал, поскреб затылок и, понизив голос, спросил:
— Скажи, добрый человек, скоро воля будет?
Радищев покосился на унтера и ответил, глядя на раскаленные угли костра:
— Об этом не говорят вслух. Откуда ты слышал?
— Народ на Камень идет и всякое сказывает! — Он оглянулся и таинственно прошептал: — И опять-таки передают, что Емельян Иванович жив и собирается в наши края. Так ли?
Радищев промолчал. Он думал, как тяжела жизнь приписного. Однако, несмотря на все тяготы, неугасим дух народного протеста. Крепостное крестьянство ждет воли! Он поднялся от костра и пошел к возку. Дровосек поплелся за ним. И когда Радищев садился в сани, он поклонился ему и сказал:
— В добрый путь, господин. Вижу, совестливый человек, и скажу тебе, как на духу: ждем мы своего часа. Ох, и ждем! А коли придет он, ух, и размахнемся! Дадим простор своему сердцу! Будь здрав! — И удалился в лес, где стучали топоры.
Под крепким шагом унтера заскрипел снег, он тоже торопился забраться в сани, чтобы продолжать путь.
Проехали демидовский завод. Управляющий Любимов не пригласил опального в господские покои. Радищев ночевал вместе с ямщиком и унтером в полицейском доме. Одинокий и грустный, сидел он у окна и смотрел, как только что выпавший на его глазах чистый снежок становился черным от заводской копоти. На минуту мысленно Александр Николаевич представил себе глубокие сырые шахты рудников, в забоях которых, извиваясь червями, долбили кайлом породу забойщики. В этом кромешном аду страшно было работать. Да не легче работалось и у домен. Демидовы умели выжимать силы из человека. Вон мимо окна прошли согбенные непосильным трудом мастеровые, только что покинувшие завод.
«Да, тяжела тут жизнь! — с грустью подумал Радищев. — И не удивительно, что мечта о воле среди работных жива и не угасает! Пройдут годы, и она разгорится в пламя!»
Утром Александр Николаевич снова забрался в сани, и опять по сторонам дороги пошли дремучие леса и заблестели высокие оснеженные горные хребты. А мысль погоняла сильнее:
«Прочь отсюда! Скорее подальше от демидовских заводов! Будь они прокляты!»
В Кунгуре Радищева ждала радость. На постоялом дворе, где довелось ему пережидать буран, к нему подошел худощавый, щупленький человек в старом камзоле и заговорил:
— Далеко ли едете, сударь?
— А не все ли равно! — безнадежно махнул рукою Александр Николаевич.
— Для меня не все равно, — спокойно глядя ему в глаза, сказал незнакомый человек. — Ежели в Сибирь, то у меня к вам покорнейшая просьба: передайте эстафету!
— Какую эстафету? Кому передать? — удивленно переспросил Радищев.
Человек в старом камзоле оглянулся и заговорил тихо:
— Не удивляйтесь и виду не подавайте! Зарок себе дал, для душевности. Без этого и жизнь не мила! Видите ли, каждого человека свое к земному существованию привязывает. Из Санкт-Петербурга через верные руки дошел ко мне один список. Запал он мне в сердце, и выучил я его, как господню молитву. Вот решил переписать и переслать его дальше! Об одном прошу, сударь: пока не отъедете две станции, не читайте сего списка! — Он протянул свернутую бумажку, и Радищев, не отдавая себе отчета, покорно скрыл ее и положил в карман.
— Кто же вы? — спросил его Александр Николаевич.
— Беспокойный русский человек, — просто ответил незнакомец. — А вы кто, сударь, осмелюсь спросить?
— Об этом надо подумать! — улыбаясь, ответил Радищев. — Однако не бойтесь, вашу записку доставлю в надежные руки.
Они расстались.
Вскоре Урал остался позади. В заброшенной деревушке на отдыхе Александр Николаевич задумался. «В самом деле, кто же я?»
Надвигались сумерки; засветили лучину, и под ее легкое потрескивание изгнанник написал сокровенные, волнующие строки:
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду!
И вдруг он вспомнил о списке, переданном ему в Кунгуре незнакомцем.
«Что же это я? Как не стыдно! В русском народе есть обычай: для облегчения души своей переписать молитву и переслать соседу. Ну-ка, посмотрим, что пересылает кунгурец?» — Он развернул тщательно свернутую бумажку и стал читать. Первые же строки сильно взволновали его. Он протер глаза, приблизился к светцу и дрожащими руками поднял листок.
Перед ним были строки его «Вольности».
Радищев читал, перечитывал, весь горел от несказанной радости.
Значит, написанное им не умерло! Оно живет в народе, передается от одного к другому в рукописи! Его читают, берегут и зажигаются святым пламенем мести к тиранам! Ах, какое неизреченное счастье!
На глазах Радищева выступили слезы. Он ехал на муки, на терзания, но снова стал по-прежнему смел, мужествен и внутренне дал себе клятву: никогда, ни при каких условиях не склонять головы пред тиранией. Стоит жить и бороться ради благородного и мужественного народа!
6
В ставке командующего Дунайской армией Потемкина продолжалась веселая, безмятежная жизнь. С наступлением сумерек к ярко освещенному подъезду поминутно подкатывали блестящие кареты и открытые экипажи с восседавшими в них нарядными дамами. В приемной и залах слышались шорохи женского платья и струились запахи тонких духов. Всюду сверкали раззолоченные мундиры, ордена, ленты военных и темнели строгие фраки дипломатов. Демидову просто не верилось, что неподалеку от главной квартиры идут военные действия.