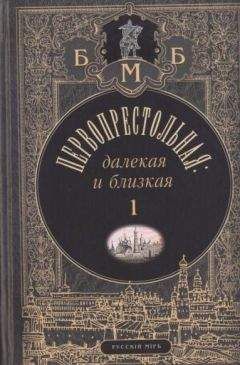Эмилиян Станев - Антихрист. Легенда о Сибине
Народ крестился, женщин рвало, дети плакали, многоголосый шум носился над Асеновым городом вместе с лаем собак и карканьем ворон. Бешено били барабаны, между Царевым городом и Трапезицей металось эхо.
Троих несчастных показали толпе, потом закрыли им лица и повели куда-то. Пришел мой черед взойти по ступеням.
Я уже знал, что ожидает меня. Легкостью наказания был я обязан заступничеству Евтимия и уважению к памяти покойного отца моего. Но когда я увидел залитый кровью помост, отрезанные языки и уши, раскаленное клеймо, клещи, услыхал, как дышат в медной жаровне меха, все поплыло у меня перед глазами. Просветитель, святой наставник мой, ты и учитель твой Теодосий, как ныне вступите вы в дом господен, дабы проповедовать милосердие? И ты, церковный причт, как станешь петь хвалу Христу? Или суждено человеку жить в поругании, понеже непроглядный мрак боговидения требует, чтобы создавались законы и законами этими преследовался каждый, кто пробует заглянуть в этот мрак?
Татарин подошел ко мне, оглядел и со смехом сказал: «Небось люб ты бабам, а? А мужчины прочь бегут? Вай, вай, шайтан и ангел! В цари и попы не вышел, в смутьяны подался. Сейчас я тебе иную красу сотворю» — и одной рукой сгреб с жаровни докрасна раскаленное клеймо, другой ухватил меня за бороду, а подручный его вцепился мне в плечи…
Что проку живописать, как обезобразили меня. И Христос распят был не только оттого, что изобличающим было слово его, но и оттого, что обижала иных красота его. И моя красота осуждена была как дьявольская, подвергнута хуле. Первым осудил её родной мой отец… Что касается палача-татарина, дело он свое знал, да и в душах разбирался… Насытившийся надругательством над человеческой плотью, он единственный из всех наслаждался не страданиями, а искусностью своей, пока толпа замирала от ужаса и ревела, точно дикий зверь…
УМного лет минуло с той поры, пастырь народа нашего, и вновь свела нас в Тырновграде судьба — я опять в оковах, раб Шеремет-бега, ты — агарянский пленник, осужденный на изгнание. И понеже в короткую встречу нашу я не мог всего сказать тебе, то пишу ныне в надежде, что эти строки попадутся тебе на глаза в той обители, куда ты заточен. А ты, брат, читающий житие мое, знай: в двунадесятую ночь после падения Тырновграда вымолил я у господина своего дозволения повидаться с тем патриархом, которого днем выводили на крепостную стену, чтобы казнить.
Можно ль пересказать, наставник мой, что довелось мне пережить в Романии, куда заслали меня? Был я и попом — венчанных перевенчивал, и рыбаком, и музыкантом — песни слагал, странствовал и пел в селах и городах, и в супружество без венца вступал. Сожженная кожа сошла с лица, на подбородке пролегли шрамы, правый ус стал наполовину меньше левого — железо выжгло волос до корня. Стар и млад сбегались поглазеть на меня, покатывались со смеху и к месту и не к месту, и всяк в неволе своей утешал себя моим страданием. Бунту учил я народ, ненависть, что накопилась во мне, помогала пересмешничать, и веселил я людей по дорогам и торжищам. Видел я, как отроки и парикн освобождаются от всякого страха перед господами своими, и ширятся новые ереси по земле болгарской. Толковали люди о том, что Господь помирился с дьяволом, как Иван-Александр с Амуратом, а Богородица рыдает оттого, что Иисус обманно брошен во ад — Господь, мол, отрекся от сына своего и дьявол возвысил Магомета, чтобы покончить с этим миром и сотворить новый, более справедливый. Двинулся народ громить болярские и монастырские владения, а турки грабили и порабощали всех…
Чего только не навидался я за эти годы! Мало ли видел обращенных в рабство, сожженных и посаженных на кол? Вороны у дороги жирели от плоти человеческой, стаями слетались черные орлы, дремали, сытые, на вершинах скал, серые волки среди бела дня бродили по равнине. А народ играл свадьбы — каждый, кто имел дочерей, торопился сбыть их с рук. Многие священники сбежали, монахи укрылись за монастырскими стенами, так что венчали, крестили и отпевали еретики. И каждый разносил ересь так, как сам её понимал. Тут пАрики болярское добро грабят, там братьев их в рабские цепи заковывают. В одном городе битва идет, в другом телят режут и пируют, свадьбы играют, в третьем агаряне девушек преследуют, головы рубят, и лес гудит от рыданий. Одна за другой переходили крепости в руки языческой погани — где правители, соблазнившись корыстью, сдавали их Амурату, а где бывали побеждены по одиночке. Турецкие ополченцы селились в городах, а христиан изгоняли из их жилищ. И множество народу угнали за Босфор. Сколько обращенных в мусульманство рабов отправились на поселение в чужие края, сколько дервишей поселялось в святынях болгарских! Где-то народ попрятался в лесах и горах, а где-то стало людям полегче, ибо некому было собирать с них многочисленные царские и болярские подати. Многие — и из знатных людей и из простолюдья — перешли к агарянам, чтобы грабить своих. И то ли от народа моего хлынула в мою душу кромешная тьма, то ли была она у меня в крови, но охватило меня злое веселье. Со свирепой радостью убивал я турок-ватажников, являвшихся на гулянья брать в полон девиц и молодух, незаметно подкрадывался в суматохе и протыкал ножом. Отпевая покойников, смеялся над Богом, а человеку сострадал. И размышлял над умом болгарина, который не признает кумиров, не чтит закона, лукавствует со злом и добром и рабски покоряется жестокой земной правде. Разъединили мы небо и землю, истину и справедливость, на Господа взираем как на несмышленыша, каждый поступает по своей воле и разумению и чтит распущенность свою более, нежели святую икону. Земной сей правдой отравлена моя душа, владыко, как твоя отравлена горним Иерусалимом… Сами порушили мы нашу скинию, не замечая, что приближаем новое рабство — чужеземное…
Узнал я, что ездил ты со своим учителем Теодосием в Царьград и там Теодосий был соборован Калистом, а после, когда преставился он, ты продолжил подвиги его в пещере под Тырновградом, создал там новую исихастскую обитель, и я подумал: «Прав был отец Лука. Греки они и греческому безумию служат, от него гибнет и ромейское царство и болгарское». Возненавидел я тебя и надолго отодвинулся ты от меня вместе с мрачным для разума моего прошлым. И уже не спрашивал я себя, в чём причина моих злосчастий, во мне ли она, в мироустройстве, либо в чём другом? Как случилось, что из наилучшего в душе моей проистекло наихудшее, из самого возвышенного — самое окаянное?
Однажды к закату дня оказался я в деревушке домов в десять. В крайнем из них плакали над покойником. Я ходил с закрытым лицом, чтобы не смеялись люди, завидев меня. Захожу во двор, собака встретила меня лаем. Выглянул старик, поклонился: «Добро пожаловать, божий человек. Заходи в дом. Помер сын у меня, покарал нас Господь».
Покойник лежал на одре, двое ребятишек забились в угол, как зверята. Молодуха лицо платком закрыла, плачет, старуха мать сидит на полу. «Священник наш в придунайскую землю подался, некому теперь ни крестить, ни отпевать, — говорит старик. — Почитай над нашим сыном». «Хорошо, — отвечаю, — но знайте, нету у меня на то дозволения, ибо предан я анафеме». «Кто тебя увидит, — говорит он. — Ни царя, ни патриарха больше нету. Помолись над нашим сыном, чтобы не мучилась душа христианская».
Взглянул я на усопшего. Молодой, а хилый, тощий. Нос заострился, губы синие, босые ноги вытянуты, руки скрещены на груди, точно две сухие ветки, и вставлена в них сальная свечечка, тускло мигает и чадит.
Громовым голосом стал я читать заупокойную молитву. Притихли женщины, крестятся, а я сам не знаю, какому богу молюсь. И надо же было такому случиться — черное покрывало сползло, обнажив заклейменное мое лицо. Женщины вскочили, старик попятился. «Прокаженный! — кричит. — Прочь из моего дома!» «Не прокаженный я, — говорю, — а клеймен за еретичество». Старший из ребятишек, испуганно взиравший на меня, вдруг прыснул — он первый разглядел смешное лицо мое с искривленным носом и губами. Засмеялся и старик, успокоились женщины. Я дочитал молитвы и остался ночевать в их домишке.
Когда смерклось, пятерых овечек загнали в небольшой хлев, старик пригнал корову. Женщины развели в очаге огонь, поели мы и легли — покойник на одре, мы, живые, на полу. Ночь душная, в лесу покрикивают совы, светит луна. Нож, которым убивал я агарян, колет меня в бок, перед закрытыми глазами стоят пожары, ведьмы хороводы водят и что-то душит, ввергает в безумие… Думал я о том, кем я стал и кем хотел стать. И чем явственнее припоминал свою жизнь в лавре, тем сильнее душил меня бес…
На другой день отпел я покойника на деревенском погосте и направился к селу одного болярина, который покорился Амурату. Стояла красная осень, опадали листья, с юга веял теплый ветерок. Земля примолкла, а я, точно преследуемый зверь, сторонюсь дорог, всё лесом да где повыше, чтобы далеко видеть. Потому что после битвы у Марицы Амурат взъярился на Шишмана и дал своим волю грабить и свирепствовать по земле болгарской, так что совершали они набеги за платьем, скотиной, рабами. Черные и страшные, но юркие, быстрые на быстрых конях, налетали они, точно буря, и исчезали, как град. Запустели нивы и виноградники, голод пополз по земле. Много раз пытался я перевалить через горы, но заклейменное лицо выдавало меня, и болгарские стражники заставляли повернуть назад.