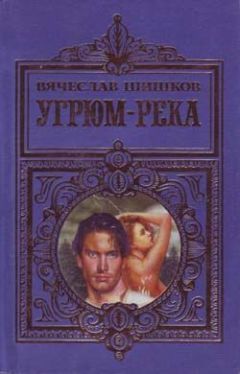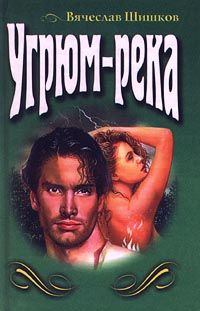Вячеслав Шишков - Угрюм-река
«Анфиса».
Анфиса зовет его. Сердце затихает, меняет струны; манит его на снеговой простор, к тому роковому долу, что охально, как голая русалка, голубеет под луной.
— Проклятая!
Заглянул к матери. Горели две лампадки. Кровать отца пуста. Марья Кирилловна стонала во сне. Где отец? Он же вечером видел его. Где ж он? Ага, так. Осторожно, чрез парадное — на улицу, к Анфисину дому. Луна потешно закурносилась, высунула Прохору язык. Плевать! Вот — дом. Шагнул на цоколь, уцепился за узорные наличники, припал к ведьмину окну горящим ухом. Тихо. Отец наверно там. Постучал слегка. Сейчас скажет ему, что матери нехорошо.
Занавеска не шевельнулась. На окне вязанье, кажется начатый черный чулок, — торчали спицы. Постучал покрепче. Спят. Закричали петухи. Прохор со всех сил хватил кулаком в переплет — дзинькнули, посыпались стекла — и, пригнувшись к земле, бросился в проулок.
11
Утром приехал Петр Данилыч. В кошевке стояли мешки муки, и сам весь был выпачкан мукой.
— Ты, отец, где был? На мельнице? И ночевал там? Пахнуло винным духом, облаком взнялась мука от брошенной на пол шапки:
— Где же еще?
Прохор мысленно упрекнул себя, — сделалось очень стыдно, — и пошел на улицу. Церковный сторож, примостившись, вставлял выбитые вчера стекла. Прохору стало еще стыдней. Шел медленно, вложив руки в рукава и опустив голову, словно раздумывая о чем, а сам зорко косил глазом на заветные окошки. Из крыльца выскочила с ведрами девочка. Хотел спросить, здорова ли Анфиса Петровна, вместо этого подумал: «Как бы желал я воду ей носить!» И замелькали мысли, горячие и едкие, как перец. На мгновенье всплыл образ матери, на мгновенье больно стало, но Анфисии сердечный шепот звучал любовно, и нет сил бороться с ним.
— Врешь… Врешь! — зашипел, ежась, Прохор, встряхнулся и быстро — в край села.
Что же ему делать с собой? Надо работать, надо учиться, время идет. В город, что ли? Но как бросить мать, отца? Отец пьянствует, мать страдает. И эта.., эта, дьявол! Заняться торговлей, пашню развести и торчать всю молодость в этой дыре с отцом, матерью, Анфисой? Но ведь он решил связать свою судьбу с судьбою Нины Куприяновой. Да, да, совершенно верно. И это очень хорошо. Она умна, красива, она спасет его и сделает настоящим человеком. Ниночка! Невеста!..
А вот и кончилось село. Белый простор. Под мартовским солнцем горят снега. И все как-то в душе забылось. — Весна! — Прохор громко» захохотал и бегом, вприскочку, к тайге:
— Го-гой! — он заорал песню, да на каблуках, волчком, вприсядку, с присвистом. И плясало, присвистывало поле, кружилась бородатая тайга, а солнце кидало в него золотом и смехом: «Го-гой!..»
От церкви, как медные вздохи, колокольный звон. Прохор сразу — стоп — снял шапку и перекрестился: он говел.
— Черт, дурак! — сказал он, оглядывая сугробы. — Десятину истоптал, плясавши.
Кровь била в его жилах: хотелось действовать, кипеть. По дороге — старичонка.
— Здорово, Прохор Петрович!
Тот схватил старичонку за ноги, перекувырнул, только борода взглянула, и вязанка дров, что за плечами, вся рассыпалась.
— Сдурел ты! Жеребец стоялый…
— Ха-ха-ха!.. Поднимайся, дед, весна! — Взвалил Прохор на себя вязанку, пошагал к селу:
— Ну, дедка, поспевай! А то садись на закукры. Ты колдун, никак?
— Тьфу, прорва!..
Дома выхватил у черкеса лопату, до трех потов разгребал желтоватый липкий снег.
— Не смей дрова колоть… Я сам! — крикнул он косоротому чалдону. И действительно, после исповеди, после ужина натяпал при луне целую сажень. Кровь гуляет, скорей бы весна пришла: схватит ружье, брызнет в летучее стадо порохом, гусиную кровь на болото выльет, своя уймется. Крови!.. Да, хорошо бы кровь взять, хорошо бы убить кого!..
Поповский кот на трубе сидел, рыжий, толстый, как сам поп: март, кот Машку ждал; Прохор приложился, грохнул, — кот башкой в трубу. Прохор улыбался. Захотелось пробегающей собаке бекасинником влепить.
— Шалишь! — крикнул черкес. — Довольно матку свой пугать!..
И многое ему хотелось сказать, но не говорилось. Эпитрахиль пахла ладаном и горелым воском, поповский живот — постным маслом, толокном.
— Аз, иерей, властию, мне данною… — но задержался голос иерейский, отец Ипат по-земному загундил:
— Нет ли еще грехов? Нет? Становился ли на пути отцу? Нет? Не соблазнялся ли пригожей вдовицей какой? Не ври, нас слышит сам бог. Значит, нет? Блюди себя, ибо юн ты и слаб мудростью, вдовица же вся в когтях нечистого и опричь того — у нее дурная болезнь… Как раз стропила в носу рухнут.
Прохора в стыд, в жар бросило, в груди как костер горит: «Ох, врет, кутья, стращает!»
— Аз, иерей, властию, мне данною.., прощаю и разрешаю ти, чадо.
Праведником выходил из церкви Прохор, на душе ангелы поют, но дьявол крутил хвостом пред его ногами, плыла поземка, вихрились снежные вьюнки.
— Завтра приобщусь. Великая вещь — вера. Как легко!
И шел за хвостатым чертовым вьюнком мимо Анфисиного дома, мимо магнитных ее окон; видит — огонек мелькает, видит — Илюха под окном стоит.
— Илья!
Как не бывало. Белая поземка замела за Илюхой след. И шепчет у покосившейся избушки Прохор, а сам золотую монетку двум парням сует:
— Видели? — мотнул он головой в проулок.
— Знаем, не учи…
Был на селе Вахрамеюшка, ни стар ни млад, без году сто лет. Нога у Вахрамеюшки деревянная, еще при покойнике Нахимове в крымскую войну шрапнелью отхватило, семнадцатую березовую ногу донашивает, — вот какой он молодой!
Удумал Прохор народ о пасхе удивить, стал откапывать с Вахрамеюшкой пушку тайно, ночью; валялась та пушка в церковной ограде и от древности в земляные хляби въелась. Казацкий отряд при царе Борисе, что ли, проходил, бросил пушку, тут ей и гроб.
— Только ты, ни гугу, смотри…
— Чаво такое?
— Молчи, мол…
— А? Реви громче! Реви мне в рот!.. В уши не доносит. — Старик разинул, как сом, свой голый рот. Прохор сделал губы трубкой и громко прокричал в седую пасть — Ага! Есть! — радостно ответил Вахрамеюшка и подмигнул:
— До времю никому не надо знать… Тайно, чтоб… А уж грохнем, — чихать смешаются… Во!..
Шел домой Прохор улыбаючись: как станет богат и знатен, настоящую пушку заведет.
— Мы, бывало, с Нахимовым, привечный покой его головушке…
Скрип-скрип деревяшка по пороше; скрипит, играет в воровской ночи Анфисина калитка, и сердце Прохора скрипит. Эх!
«Ниночка, невеста моя!.. Скоро пасха. А у нас холод еще. Ниночка, пасха. Когда же мы, Ниночка?.. Я расцелую тебя всю, всю… Три раза, тыщу раз. Я получил твое письмо и не ответил тебе. Свинья и олух».
Тут карандаш его сломался, он спрятал свой потайной дневник под ключ. Глупо как и.., по-мальчишески. Разувался громко. Подшитый кожей валенок ударил в пол. Крякнул Прохор и, не перекрестившись, лег:
— Покойной ночи!
«Как хороши после двенадцати евангелий, после страстей господних огоньки: плывут, плывут…» — думает богомольная Анфиса.
Темно и тихо. От церкви тихо плыли огоньки, перешептывались, мигали. Много огоньков. Каждый огонек живой — рука и сердце. Рука Анфисы белая, теплая; сердце Анфисы непонятное — магнит. А свечка — как у Прохора, как у матери его, Марьи Кирилловны, — толстая с золотыми завитками. Печальная Марья Кирилловна направилась в свой дом.
Погасил Прохор свою свечу, укрылся тьмой и сквозь тьму за Анфисой тайно. Шарит по лицу Анфисы огонек, шевелит ее губами: полные, красивые, яд на губах и сладость. И такое нежное девичье лицо.
Шепчет Анфиса огоньку:
— Помолись, покланяйся, огонек, за милого… Сокол ясный!.. Молодешенек! Шепчет Прохор тьме:
— Потаскуха!.. Ишь ты!.. Богомольная!.. — И не может Прохор понять, любит или ненавидит он Анфису.
А дома — чай. Петр Данилыч красный, за стаканом стакан глотает, жжется. Веником пахнет от него и баней.
— Фу!.. Вот так, елеха, воха, нахвостался. Аж веник от жару затрещал. Фу!.. Эй, Ибрагим!
Ибрагим в кухне белки сбивал, к пасхе желает пирожное устроить, совсем по-городскому, называется — безе. Ого! Он еще не то умеет… Он…
— Не могу напиться. Поддень-ка на тарелку снежку мне к чаю. В стакан уважаю класть.
Черкес, как свекла, красный: лицо, глаза, а к горячей лысине от веника лист прилип.
Великий четверг — всем четвергам четверг. Марья Кирилловна с Варварой в кухне при фартуках, рукава за локоть, обе с надсадой тесто бьют, трясутся груди.
Куличи будут печь две ночи, гостей соберется много, «святая» велика, а крупчатки со сдобой — хоть засыпься. Илюха Сохатых, Илья Петрович господин, четвергову соль толчет.
— Ужасно уважаю весь этот предрассудок, — деликатно говорит он, покачивая головой вправо-влево при каждом ударе медного песта.
— А ты, Ибрагимушка, пойдешь в церковь-то? — спрашивает хозяйка.
— Пойду, Марья. Кулыч святить тащил. Нада. Кухарка хихикнула в пазуху и вильнула глазом на черкеса:
— Да ты ж — татарская лопатка, нехристь.