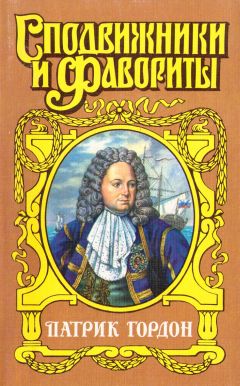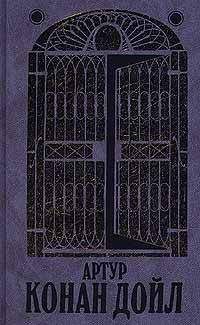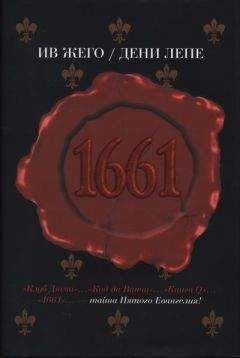Артур Конан Дойл - Изгнанники (без указания переводчика)
Но мужчина снова толкнул ее, а двое из слуг, схватив за кисти рук, потащили дальше.
— О Морис, Морис! — кричала она. — Я не готова к смерти. О, прости меня, Морис, если хочешь сам быть прощенным, Морис, Морис!
Она пыталась приблизиться к нему, схватить за руку, за рукав, но он стоял, положив руку на эфес шпаги, и лицо его сияло злобной радостью. При виде этого ужасного насмешливого лица мольба замерла на ее устах. Молить было так же бесполезно, как просить милостыню у падающего камня или мчавшегося потока. Женщина отвернулась, откинув с лица вуаль.
— Ах, король! — продолжала она. — Если бы вы могли теперь взглянуть на меня!
При этом восклицании и при виде прекрасного бледного лица наблюдавший эту сцену из окна де Катина почувствовал, как сжалось у него сердце. Перед ним у плахи стояла самая могущественная, самая умная и самая прекрасная из женщин франции — Франсуаза де Монтеспань, еще недавно фаворитка короля Людовика XIV.
XIX
В КАБИНЕТЕ КОРОЛЯ
В ту ночь, когда королевским посланным пришлось испытать столько необычайных приключений, король сидел один в своем кабинете. С разрисованного потолка над его головой опускалась изящная лампа, поддерживаемая четырьмя маленькими крылатыми купидонами на золотых цепях, и разбрасывала в комнате яркий свет, отражавшийся в бесчисленных зеркалах по стенам. Мебель черного дерева с отделкой из серебра, роскошные ковры, шелка, гобелены, золотые вещи и тонкий севрский фарфор — все лучшее, что производила промышленность Франции, сосредоточилось в этих стенах. Каждая вещь представляла собою художественную редкость. А владелец всего этого богатства и блеска, мрачный и угрюмый, сидел, опустив подбородок на руки, опершись локтями на стол и устремив рассеянный взгляд на противоположную стену.
Но хотя его темные глаза и смотрели на стену, они, казалось, ничего не видели. Быть может, они были обращены назад, на длинный ряд прожитых годов, на ту золотую юность, когда мечты и действительность так перемешивались друг с другом. Сон или действительность — вот эти двое людей, склонившиеся над его колыбелью, один в темной одежде со звездой на груди, которого его учили звать отцом, другой — в длинной красной мантии, с маленькими блестящими глазами? Даже теперь, по прошествии более сорока лет, королю внезапно представилось живым это злое, хитрое, властное лицо, и он снова увидел старого Ришелье, великого невенчанного короля Франции. А затем другой кардинал, длинный, худой, отбиравший у него карманные деньги, отказывавший ему в пище и одевавший его в старое платье. Он прекрасно помнил день, когда Мазарини нарумянился в последний раз и весь двор танцевал потом от радости при известии, что кардинала не стало. А мать? Как она была прекрасна и властна! Вспомнилось, как храбро она держалась во время войны, сломившей могущество вельмож, и как, уже лежа на смертном одре, умоляла священников не пачкать завязок ее чепца святыми дарами. Потом мысли понеслись к тому времени, когда он сделался самостоятельным: вот он сбавил спесь своей знатной аристократии, добиваясь того, чтобы быть не только деревом среди окружавших равных деревьев, но остаться одному, высоко раскинув ветки над всеми остальными, и своей колоссальной тенью покрыть всю страну. Промелькнули перед глазами веденные им войны, изданные законы, подписанные договоры. Под его искусным управлением Франция расширила свои границы и к северу и к востоку, а внутри спаялась как монолит, где слышался только один голос, голос его, короля. Вот замелькала галерея бесчисленного ряда очаровательных женских лиц. Олимпия Манчили, итальянские глаза которой впервые указали ему, что есть сила, могущая управлять даже и королем; ее сестра Мария Манчили; жена со своим смуглым личиком, Генриэтта Английская, безжалостная смерть которой поразила его сердце ужасом неизбежного; Лавальер, Монтеспань, Фонтанж. Одни умерли; другие в монастырях. Блиставшие некогда красотой и утонченностью разврата теперь остались только с последним. А что же в результате всей этой беспокойной, бурной жизни? Он перешагнул уже грань зрелых лет, потерял вкус к удовольствиям юности; подагра и головокружения постоянно напоминают ему о существовании иного царства, которым он не может уже надеяться управлять. И за все это долгое время им не приобретено ни единого верного друга ни в своей семье, ни среди придворных, ни, наконец, в стране — никого, за исключением разве той женщины, на которой он собирался жениться в ту ночь. А как она терпелива, добра, какие у нее возвышенные мысли! С ней он надеялся загладить истинной славой все грехи безумного прошлого. Только бы приехал архиепископ! Тогда он будет знать, что она действительно принадлежит ему навеки.
Кто-то постучал в дверь. Людовик поспешно вскочил с места, полагая, что, вероятно, приехал архиепископ. Вошел камердинер с докладом, что Лувуа испрашивает аудиенции у короля. Вслед за ним появился и сам министр. В руке у него болталось два кожаных мешка.
— Ваше Величество, — проговорил он, когда Бонтан удалился, — надеюсь, я не мешаю вам.
— Нет, нет, Лувуа. Сказать по правде, мои мысли стали надоедливыми и я рад расстаться с ними.
— У Вашего Величества могут быть только приятные размышления, — продолжал Лувуа. — Но я принес вам нечто, что сделает их еще интереснее.
— А что именно?
— Когда многие из наших молодых дворян отправились в Германию и Венгрию, вы мудро изволили заметить, что было бы желательно пересматривать письма, посылаемые ими на родину, а также быть в курсе новостей, получаемых ими от здешних придворных.
— Да.
— Вот они — полученные из-за границы здесь, в одном мешке, а в другом — те, которые следует отослать. Воск распущен в спирте, и таким образом письма вскрыты.
Король вынул пачку конвертов и взглянул на их адреса.
— Действительно, мне хотелось бы прочесть правду в сердцах этих людей, — заметил он. — Только таким способом могу я узнать истинный образ мыслей низкопоклонствующих передо мною придворных. Полагаю, — добавил он, и подозрение внезапно блеснуло в глазах короля, — вы сами предварительно не проглядывали этих писем?
— О, я скорее умер бы, Ваше Величество.
— Вы клянетесь?
— Да, надеждою на спасение моей души.
— Гм. Я вижу на одном из этих конвертов почерк вашего сына.
Лувуа изменился в лице.
— Ваше Величество убедится, что он предан вам одинаково — перед вами он или нет, иначе он не сын мне, — пробормотал он.
— Ну так начнем с него. Тут и всего-то несколько строчек. "Милейший Ахилл, как я жажду твоего возвращения. При дворе после твоего отъезда нависла скука, словно в монастыре. Мой забавный отец по-прежнему выступает индюком, как будто медали и кресты могут скрыть, что он нечто иное, как старший из лакеев, имеющий власти не более меня. Он выуживает у короля массу денег, но я не могу понять, куда он их девает, так как на мою долю перепадает скудно. Я еще до сих пор должен десять тысяч ливров моему кредитору в улице.
Вели не повезет в ландскнехте, придется скоро приехать к тебе".
— Гм! Я был несправедлив к вам, Лувуа: очевидно, вы не просматривали этих писем.
Во время чтения этого документа министр сидел с побагровевшим лицом и вытаращенными глазами. Когда король окончил, Лувуа почувствовал облегчение по крайней мере в том отношении, что здесь не было ничего серьезно компрометировавшего его лично; но каждый мускул его громадного тела трепетал от ярости при воспоминании о выражениях, обрисовывающих его устами молодого повесы.
— Змея! — прошипел он. — О, подлая змея в траве. Я заставлю его проклинать день своего рождения.
— Ну, ну, Лувуа! — успокаивал король. — Вы человек, видавший виды на своем веку, и должны бы стать философом. Пылкая юность частенько болтает больше, чем думает. Забудьте об этом. А это чье? Письмо моей дорогой девочки к мужу, принцу де Коитн. Я узнал бы ее почерк из тысячи других. Ах, милочка, она не думала, что ее невинный лепет попадет мне на глаза. Зачем читать письма, когда мне вперед известно все, что происходит в этом невинном сердце?
Он развернул душистый листок розовой бумаги с нежной улыбкой, но она исчезла, как только глаза пробежали страницу. С гневным криком, прижав руку к сердцу, вскочил король на ноги. Глаза его не отрывались от бумаги.
— Притворщица! — кричал он задыхающимся голосом. — Дерзкая, бессердечная лгунья. Лувуа, вы знаете, что я делал для принцессы. Вы знаете, она была для меня зеницей ока. Отказывал я ей когда в чем-либо? Чего я не делал для нее?
— Вы были олицетворением доброты, Ваше Величество, — почтительно согласился Лувуа, собственные муки которого несколько утихли при виде страдания его повелителя.
— Послушайте только, что она пишет обо мне. "Старый ворчун все такой же, только подался в коленях. Помните, как мы смеялись над его жеманством? Ну, он бросил эту привычку и хотя еще продолжает расхаживать на высоких каблуках, словно нидерландский житель на ходулях, но зато перестал носить яркие одежды. Конечно, двор следует его примеру, и потому можете себе представить, каким веселым пейзажиком стало это место. Та женщина все еще находится в фаворе, и ее платья столь же мрачны, как и одежды отца. Когда вернетесь, мы с вами уедем в наш загородный дворец и вы оденетесь в красный бархат, а я в голубой шелк. Тогда у нас будет по крайней мере свой цветной двор, несмотря на кичливость отца".