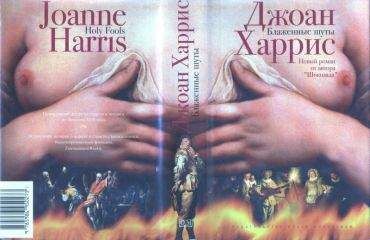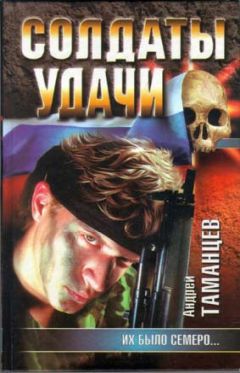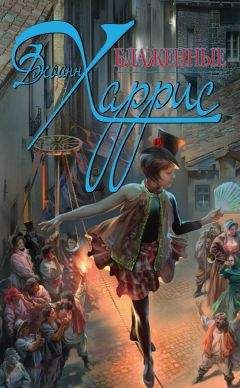Джоан Харрис - Блаженные шуты
Все молча во все глаза смотрели на него.
— Должен ли мирянин повернуться и бежать?
— Нет! — глухо отозвалось, точно всплеск брызг накатившей волны.
— Должен ли мирянин стенать и рвать на себе волосы?
— Нет! — Теперь уже прозвучало тверже, подхваченное большинством.
— Нет! Мирянин хватает что ни есть под рукой — дубину, кол, вилы, — скликает друзей и соседей, а также братьев своих и их дюжих крепких сынов, и он гонит того волка, гонит его и уничтожает, и если Сатана устроил себе здесь логово, тогда, говорю я, пора изгнать его, чтобы он, как побитая собака, уполз к себе в преисподнюю!
Скуля от радости и восторга, теперь они все были в его власти. Черный Дрозд мгновение грелся в лучах восторженного поклонения — когда-то он так же стоял перед переполненным залом, — потом, поймав мой взгляд, улыбнулся. И продолжил, понизив голос:
— Но спросите себя, если Сатана сломил ваше сопротивление, спросите же себя, как вы позволили свое сопротивление ослабить? Какими непокаянными грехами, какими сокрытыми пороками вскормили вы его, какими грязными происками пригрелся он здесь в нечестивые времена?
Снова, на гребне уже новой волны, толпа отозвалась, бормоча:
— Скажи! Наставь нас!
— Нечистый способен укрыться где угодно, — он снизил голос до шепота. — Даже в самом святом храме. В воздухе. В этих камнях. Вглядитесь в себя! — Шестьдесят пар глаз принялись оглядывать друг дружку. — Присмотритесь к себе!
На этой ноте Лемерль отвернулся от кафедры, и я поняла, что представление окончено. Все в его духе — выход, действие, монолог, гранд финале и затем, наконец, к делу. Подобная роль, или же ее вариации, разыгрывалась передо мной многократно.
Его голос, только что такой проникновенный, будоражащий, резко переменился, перейдя на безличный, отрывистый тон начальника, выдающего распоряжения:
— Теперь ступайте, все свободны. Никаких богослужений не будет, пока место не очистится от скверны. Сестра Анна, — Лемерль повернулся к Перетте, — пойдет со мной. Сестра Альфонсина, обратно в лечебницу. Остальные могут возвращаться к своим обязанностям и молитвам. Хвала Господу Нашему!
Ничего не скажешь, даже восхищения достойно. С самого начала он уже держал их в своих руках, умело направляя из одной крайности в другую, — но зачем? Он намекал на какой-то высший мотив, позначительней, чем его прежние кражи и обманы, хотя я все еще не могла взять в толк, зачем понадобился ему этот маленький монастырь, затерянный в глуши. Мне казалось это странным. Но что мне делать? В его руках моя дочь. Важней и насущней ее спасения для меня нет ничего. Во всем остальном пусть разбирается сама Церковь.
12
♥
26 июля, 1610
Это утро прошло в трудах, молитвах и размышлениях. Во время капитула мы все публично исповедовались, и тут выяснилось, что еще пять монахинь ощутили привкус крови на языке во время причащения. Матушка Изабелла предположила, что в такой обостренности чувств могут быть повинны обильная пища и обильное питье, и наказала, чтоб ни в кухне, ни на столе отныне не появлялось ничего из содержащего красный цвет — ни мясо, ни помидоры, ни красное вино, ни яблоки, ни красные ягоды — и чтобы теперь мы все перешли на простейшую пищу. Теперь, когда новый колодец был почти завершен, эль также ограничивался, к досаде сестры Маргериты, которая невзирая на свою хворь заметно раздобрела от его питательных свойств. Сестра Альфонсина находилась в лечебнице вместе с Переттой. Сестра Виржини приглядывала за ними обеими и была уполномочена докладывать, если что не так, Матери Изабелле. Мне казалось невероятным, что кто-либо из наших сестер мог и в самом деле заподозрить Альфонсину или Перетту в одержимости. Но слухи разрастались. Зубы дракона, посеянные Лемерлем, быстро всходили.
Сегодня после ужина перед молением, исповедью и вечерним богослужением мы были предоставлены сами себе на полчаса. Я отправилась к грядкам, где росли теперь уже не мои травы; проводила пальцами по нежным кустикам розмарина и серебристого шалфея, вдыхала льющийся в меркнущем дневном свете их тонкий аромат. Пчелы с жужжанием перелетали с лиловых шишечек лаванды на мелкие пахучие цветки тимьяна. Белокрылая бабочка на мгновение застыла, усевшись на василек. Внезапно отсутствие Флер показалось таким явным, таким неизбывным; перед глазами, будто резким переворотом дурной карты, встало ее сиротское личико. И чувство тоски, которую я отчаянно прятала в себе, накатило снова. Ничтожные мгновения, урванные в толпе: я едва успела на нее взглянуть. Капля в море. И как дорого пришлось за это заплатить. Минуло четыре дня. По-прежнему никакого знака от Лемерля, ни намека на возможность нового свидания. Я холодела от мысли: что если теперь, когда он спит с Клемент, уже нет надежды увидеть Флер? Я уже не так юна, я ему приелась. Лемерлю угодно лакомиться теми, кто помоложе. Я для него слишком холодна, слишком независима, слишком упряма. Мне не на что больше рассчитывать.
Я опустилась на колени рядом с грядкой. Запахи лаванды и розмарина кружили голову, навевая воспоминания. Уже в который раз с растущей настойчивостью я спрашивала себя, что все-таки замышляет Черный Дрозд. Если б разгадать его мысли; тогда, возможно, я сумела бы хоть как-то ему воспрепятствовать. Может, в монастыре спрятано золото, к которому тянутся его алчные руки? Может, он каким-то образом разузнал о таящихся здесь сокровищах и надеялся, что я на них наткнусь, копая колодец? Мы ведь все наслышаны про сокровища монахов, запрятанные в крипте, замурованные в древние стены. Опять я со своими романтическими выдумками. Джордано этого не выносил, высшей поэзией для него была математика. Плохо кончишь, девушка, — говорил он мне сухо. — У тебя пиратская душа. И добавлял, сверкнув глазом, видя, что мне такое сравнение, возможно, даже лестно: Пиратская душа, и ослиные мозги. Ладно, вернемся к нашим формулам…
Знаю, что бы сказал мне Джордано. В монастырских стенах никакого золота нет, и даже если оно и было когда захоронено в этой песчаной земле, то кануло глубоко и навеки. Клады только в сказках бывают. Но все же с Лемерлем у меня больше сходства, чем с моим наставником; в нем больше пиратского, меньше логики. Я знаю, что им движет. Страсть. Озорство. Овации. Истинный восторг делать все наперекор, обхитрить противника, низвергать алтари, осквернять могилы. Я знаю это, потому что мы все еще похожи, он и я, каждый будто окно в душу другого. В этой странной крови вспенивается и леденеет множество страстей, и жажда наживы лишь малая в них толика. Нет, дело тут не в деньгах.
Что же тогда, власть? Желание осознавать, что тебе подвластно столько женщин, использовать их, манипулировать ими? Это, пожалуй, больше в духе Черного Дрозда и вполне согласуется с его тайными свиданиями с Клемент. Но красоток у Лемерля, пожалуй, всегда было предостаточно, он никогда не страдал отсутствием внимания ни среди провинциалок, ни среди обитательниц парижских салонов. Прежде он это никогда особо не ценил, никогда не сворачивал с пути, чтоб за какой-нибудь погнаться. Что же тогда? — спрашивала я себя. — Что может двигать таким человеком, как он?
Внезапно из-за стены, окружавшей огород, раздался крик. Я вскочила на ноги.
— Miséricorde!
Так пронзительно, что сперва я даже не разобрала, кто кричал. Подбежав к стене, я выглянула наружу.
Фруктовый сад и огород находились как раз у западного фасада часовни, чтобы защитить деревья и растения от холодных зимних ветров. Я перегнулась через стену: западный вход был всего в пятидесяти футах от меня. Бедная старуха Розамонда, обхватив голову руками, истошно вопила:
— А-а-ай! Тут мужчины!
Подтянувшись с силой, я вскарабкалась на стену и встала на край. У западного входа стояло шестеро парней. У раскрытой двери лежала груда веревок с блоками, рядом куча бревен, явно предназначенных для перетаскивания тяжестей.
— Успокойся, сестра! — крикнула я ей. — Это всего лишь работники. Пришли крышу чинить.
— Чинить? — уже смущенно переспросила Розамонда.
— Успокойся, — снова повторила я, спуская ноги с наружной стороны стены. — Это работники. Крыша протекает, будут ее латать.
Ободряюще кивнув Розамонде, я легким прыжком соскочила в высокую траву.
Розамонда, озадаченно тряся головой, спросила:
— Кто ты, девушка?
— Я сестра Огюст, — сказала я. — Узнаешь меня?
— Нет у меня никакой сестры, — сказала Розамонда. — И не было никогда. Может, ты моя дочь? — Она близоруко вглядывалась в меня. — Должно быть, милая, я тебя знаю. Но все же припомнить не могу…
Я нежно обняла ее. Несколько сестер, собравшихся у входа, поглядывали на нас.