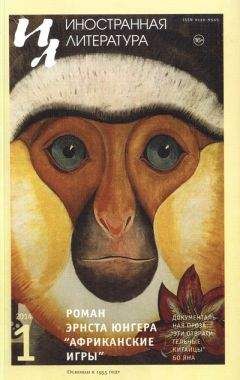Елена Хаецкая - Мишель
— Ну тебя! — немного испугалась Аннет, снимая нитку. — Как скажешь — так жить потом не хочется…
Она бросила ему браслетик и убежала. Мишель растерянно следил за тем, как мелькает между стволами белое платье. Ему показалось, что он чем-то обидел ее. Подняв браслетик и повесив его на пальцы, он несколько минут разглядывал его, снова и снова переживая острое ощущение близкой невинности, и тут Вадим впервые открылся своей сестре, ангелу Ольге. Контраст между отчаявшимся горбачом, чья жизнь была посвящена мщению, и кроткой красавицей, угнетаемой злодеем, усугублялся любовью: почти не-братской, почти не-сестринской; это была платоническая привязанность, более крепкая и страстная, чем плотское влечение, и в некоторой степени более запретная…
Чай подали в саду, Мишель явился один из последних, был хмур и сдержан — Вадим, дворянин в обличье раба, сливался с евреем Фернандо, сгусток страдающей, обреченной на гибель плоти, а светозарный ангел в облике любящей девы нес в удлиненных, пронизанных солнцем ладонях фиал со смертью…
— Я считаю русскую еду наиболее здоровой, — сказала бабушка Елизавета Алексеевна. — И ты, Катерина Аркадьевна, меня в обратном не убедишь. Что лучше хорошей рассыпчатой каши? А курные пироги? А наши ягодники?
Другие тетушки пытались возражать, приводя в пример каких-то французских поваров, но все это не являлось для Елизаветы Алексеевны ни малейшим авторитетом.
— Баловство! — отрезала она.
Мишель вдруг вступил в разговор:
— Нет уж, бабушка, пища должна быть изысканна, в этом и смысл ее — а не просто в грубом насыщении.
— Смысл пищи в том, чтобы доставлять нам здоровье, — отрезала Елизавета Алексеевна. — Что до удовольствий, получаемых от пищи, — про то и отец Евсей говорил, что все оно бесовское…
— Это потому, что отец Евсей получает удовольствие не от брашен, а от пития, — отозвался Мишель.
Отец Евсей, местный священник, слегка грешил винопитием, что, впрочем, ничуть не убавляло ему авторитета у прихожан. Напротив — мужички толковали, что батюшка «не гордый, коли не брезгует», и всегда в трудных случаях шли к нему за разрешением от сомнений.
Елизавета Алексеевна хлопнула ладонью по столу:
— Да что ты, батюшка, в самом деле!
Мишель чуть пожал плечами и послал бабушке обольстительную улыбку, от которой «Марфа Посадница» тотчас растаяла.
— Неужто Мишель у нас гастроном? — удивилась Саша Верещагина. — Вот бы никогда не подумала!
Светозарный ангел с фиалом смерти в дланях застыл в воздухе, как бы в нерешительности болтая над головами собравшихся очаровательными босыми ножками.
— Уж я в еде разборчив! — сообщил Мишель.
Катя передвинула глаза, мелькнули синеватые белки, порхнули густые ресницы.
— А вот мне, Миша, показалось, что ты что угодно горазд слопать… Это потому, что ты еще растешь, — сказала Катя. — Когда человек растет, ему нужно много кушать. Мы вот с Сашей уже вполне старые и кушаем мало, а тебе пока что требуется…
Мишель побагровел.
— Я в свои шестнадцать пережил столько, что иному восемнадцатилетнему не снилось! — резковато проговорил он. — И прошу мне на возраст не указывать.
— Мы не возраст указываем, — заметила Саша, — а только на аппетит. Должно быть, в прошлой жизни ты был волком.
— Или вороном, — подхватила Саша.
— Ну, вороном — это жестоко, — упрекнула ее Катерина. — Положим, орлом. «Где труп, там соберутся орлы».
Мишель сказал:
— По-вашему, Катерина Александровна, я до того прожорлив и неразборчив, что могу и на труп позариться?
— Можешь! — дерзко ответила Катя.
— С меня хватит, — объявила Елизавета Алексеевна. — Миша, заканчивай чай и выходи. Сил нет слушать, что вы тут такое говорите. А ты, Александра, могла бы и пример подать. Ты старше.
— Вы, бабушка, сами невыносимы — разве можно девушке говорить, что она кого-то старше, — сказал Мишель.
— Я что думаю, то и говорю, и не ты меня учить будешь, — ответила бабушка. — Брысь!
Мишель встал, подчеркнуто вежливо поклонился и удалился от стола. Бабушка проводила его обожающим взором.
— Вишь, орел да ворон, — проворчала она себе под нос. — Жениться бы ему, что ли…
* * *Стороннему наблюдателю могло бы показаться, будто на конную прогулку отправляются всего шесть человек: Мишель, Аннет, Катя с Сашенькой и Варвара со своим братом Алексеем, который приехал в Середниково на пару дней и, по обыкновению, чуть загостился.
Но такое виделось лишь благосклонным тетушкам, провожающим молодежь умиротворенными взорами. На самом деле эти шестеро были окружены толпой невидимых постороннему взгляду призраков, вполне осязаемых и даже в некотором роде определяющих и поведение, и образ мыслей молодых людей. Были здесь и Эмилия, и Ольга, и Фернандо, и Вадим, и Ноэми, и даже Ада (она же — Ангел Смерти) — словом, как выразилась бы бабушка Арсеньева, «разбойничья шайка в полном собрании».
Присутствие столь важных и мрачных персон отнюдь не омрачало настроения Мишеля — он сыпал остротами и экспромтами, иногда с самым серьезным и хмурым видом, что ставило в тупик собеседников; и лишь когда до них доходил смысл сказанного и они принимались хохотать, Мишель словно бы взрывался: взмахивал рукой и заливался отрывистым, как будто злым смехом. Все эти экспромты казались верхом остроумия, но почти мгновенно забылись.
Забрались далеко, за поля, в холмы, впереди уже показалось Большаково — резиденция блистательной Черноокой Катерины; но туда решили не ехать: больно уж нудные тетки у Кати.
— Они никогда не упустят случая напомнить мне, что я живу у них из милости, точно безродная сирота, — говорила Катерина. — Сколько слез я выплакала — разумеется, тайно! — печалясь над своей несчастной долей! Утрата родителей, а потом еще и бесконечные попреки жестокой родни… Что же удивительного в том, что больше всего на свете я полюбила танцы? Только среди посторонних, на балах, в вихре мазурки и поклонников, пусть и глупых, могу я забыться! Так и живу в раздвоенности: днем плачу, а вечером — танцую и смеюсь! Всяк, со мною незнакомый, решил бы, что я беспечна и всегда весела, но это совершенно не так…
Большаково, таким образом, осталось позади, и кавалькада устремилась в другую сторону. Несколько малых, смирных русских речек бежали по полям, окруженные скромным веночком незабудок, и Катя, сорвав цветок, сказала между прочим:
— Когда я впервые выехала, у меня было прелестное платье: белое с узором из таких цветков… Я танцевала, и кавалер спросил меня, каково название цветов, что украшают мой туалет. Я сказала — «не забудь меня». Он засмеялся и ответил, что такое название излишне — забыть меня невозможно…
Мишель чуть скрипнул зубами, но Катя этого «не заметила»: была занята — окидывала окрестности задумчивым взором прекрасных черных глаз.
«„Разумеется, она не для тебя, жалкий, всеми отверженный горбач!“ — с горечью подумал Вадим. И Фернандо подхватил: „Возможно ли, чтобы она была с тобою счастлива? Кто ты? Никто… Между тем как она… она…“»
Ангел Смерти дружески вмешался в разговор — голос ее прозвучал так спокойно и ласково, что оба разнесчастных персонажа мгновенно улетучились и остался один только Мишель, милый кузен множества славных московских кузин.
— Вон там, кажется, хорошее место, под ивами — передохнем, — сказала Саша Верещагина.
Пока устраивались, пока лошади пили, а молодые люди гуляли по траве и учились плести венки — время шло. Тут заодно выяснилось, что никто не прихватил корзину с провизией, хотя Мишель мог бы поклясться: была корзина! Ее загодя еще приготовили по велению тетушки Катерины Аркадьевны. Да и бабушка Арсеньева не отпустила бы внука на голодную смерть.
Поначалу Мишель подумал, что обознался и корзина где-то прячется. Он так и спросил:
— А где наши большие коробки с едой?
Пошарили вокруг — нету. Как такое могло случиться? Почему нету? Стали выяснять: кто должен был взять запас. В конце концов, свалили все на ничего не подозревавшего Алексея Лопухина. Тот, будучи старше прочих, спокойно принял вину на себя и добродушно улыбался в ответ на все упреки. Мишель чуть не плакал с досады: он был голоден просто как зверь. Бездомный нищий Вадим, коему доводилось голодать и похуже, сейчас куда-то отлучился и не захотел утешить своего сочинителя и собрата. (Это ли не коварство людское!)
Немедленно скакать обратно в Середниково никто не захотел, и Мишель (обиженный и голодный) остался с прочими. Так минул обеденный час; только к вечеру возвратились и сразу бросились к столу. Подавая уже остывшие пирожки, няня Лукерья с какой-то особенной укоризной покачивала головой, а Саша с Катей переглядывались и тайно прыскали.
Будь Мишель постарше и поопытней, он счел бы такое сочетание пантомим подозрительным, однако чувство голода пересилило все остальные. Схватив пирожок, он отправил его в рот и, еще жуя, уже потянулся за следующим.