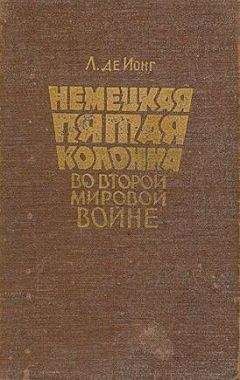Алексей Толпыго - Загадки истории. Злодеи и жертвы Французской революции
Все это, вроде бы, не так важно; но это тот случай, когда тон намного важнее содержания.
А что, они действительно были такими храбрыми? Несколько лет спустя, при Бонапарте, большинство стало весьма послушными (а некоторые – весьма эффективными) служителями режима[7]. В чем причина этого преображения?
На наш взгляд, это можно пояснить тем, что храбрость этих людей, их пренебрежение законами были тогда безнаказанными – и это поощряло других к тому же. При Наполеоне наказание было бы неотвратимым. И вот потому-то, хотя революция и считается оконченной, страна по-прежнему бурлит.
Июнь 1792 года. Последний шанс
Между тем весной 1792 года начинается война с Австрией, эта война будет, с небольшими перерывами, продолжаться 22 года. Она начинается при всеобщем энтузиазме, но идет неудачно. Народ в недоумении: как так? Правда на нашей стороне (так думают все и всегда), наши войска воодушевляют идеи свободы, тогда как рабы тиранов сражаются только по принуждению – ясно, что мы должны побеждать, но мы проигрываем?!
Как это объяснить? Конечно, только изменой! Офицеры – бывшие дворяне, – наверно, изменники; генералы – изменники; наконец, измена в самом дворце, изменник – сам король!
Тут, кстати, была доля правды. Дело в том, что при дворе были разные силы. Одна партия считала, что победоносная война укрепит положение короля и вернет ему реальную власть. Другая же, возглавляемая королевой, полагала, что положение слишком тяжелое и что единственный шанс на спасение – это победа вражеских армий. Пусть они разгромят армии революционной Франции; ну, придется за поражение расплатиться двумя-тремя провинциями, это «дело житейское». Так что изменники, в некотором роде, действительно были, но если б их не было, это ничего бы не изменило.
Между началом войны и низвержением короля – всего лишь 4 месяца.
Как говорилось выше, спасением для короля было бы, если бы он сам пошел во главе революции. Однако если в первые месяцы это бы означало, что он должен проводить разумные и давно назревшие меры, то теперь ему бы пришлось проводить меры, которые были явно против его совести. Иначе говоря – выхода уже не было.
Конкретно речь пошла о мерах против «неприсягнувших священников». Два года назад, летом 1790 года, Национальное собрание приняло так называемую «гражданскую конституцию духовенства», что стало одной из самых роковых ошибок новой власти. При этом намерения, как обычно бывает, были самые лучшие. Никто не хотел (в тот момент) как-то издеваться над священниками или навязывать им чуждые взгляды. Речь шла только о том, чтобы привести дела в порядок – не больше. Но «хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
Что именно было сделано?
Собрание вовсе не затевало религиозной реформы. Но оно постановило: епископства должны соответствовать департаментам. Значит, отныне во Франции будет не 135, а 93 епископа. Причем отменены были даже не 42 «лишних» епископства, а все 135, поскольку карта была полностью перекроена (хотя, конечно, вовсе не запрещалось назначать на новые кафедры прежних епископов). Раньше епископы назначались королем – отныне священнослужители избираются народом. И наконец, все священнослужители должны принести присягу новой конституции.
В этих требованиях ничто не противоречило католическим доктринам. Ничто, кроме их духа. По достаточно мелкому вопросу (так оно и бывает в большинстве случаев) столкнулись две организации, претендующие на универсальность: старая – католическая церковь и новая – Учредительное собрание, намеренное перестроить мир по законам разума.
Но Папа Римский реформу не признал. Французское духовенство оказалось меж двух огней, ему предстояло нарушить либо лояльность папе, либо Франции. И соответственно, французское духовенство разделилось на «присягнувших» и «неприсягнувших» священников.
Летом 1792 года Собрание приняло несколько грозных декретов, в том числе распорядилось ссылать неприсягнувших. Декрет, однако, должен был подписать король. А он сам всецело симпатизировал неприсягнувшим; более того, его совесть никак не позволяла подписать закон о ссылке людей за их убеждения. Он отказался. Но он был уже не в том положении, когда можно отказываться.
Министры-жирондисты, представившие королю эти документы, подали в отставку. Печать неистовствовала: как смеет король отклонять декреты, необходимые для безопасности страны? 20 июня 1792 года толпа врывается во дворец. Короля окружают, кричат ему: «Утвердите декреты! Верните министров-патриотов!»
Наблюдавший за этим Бонапарт возмущен: «Как можно было так себя вести с этой сволочью? Будь у меня несколько пушек, я бы рассеял этих каналий!»
Король был на это не способен. И тем не менее из «дня» 20 июня он вышел как будто бы с победой. Король, начисто лишенный деятельного мужества, обладал как раз тем родом пассивного мужества, которое требовалось в данном случае. Он спокойно разговаривал с вооруженными интервентами; подавал им руку, надел себе на голову красный колпак и выпил вина из их рук; но он не согласился сделать то, что противоречило его убеждениям. В конце концов парижане разошлись, более или менее удовлетворенные и не добившиеся своих целей. Между тем многие в стране возмутились таким обращением с королем. Власти Парижского департамента отстранили от должности парижского мэра Петиона и прокурора Манюэля. Поступили петиции роялистского характера из департаментов. А через несколько дней в Париж приехал из армии генерал Лафайет, чтобы потребовать закрыть клуб якобинцев и, как он сам заявил, выступая в Законодательном собрании, «заменить власть клубов властью закона».
В 1789 году Лафайет был кумиром толпы; годом позже его считали самым сильным человеком в стране, «будущим Кромвелем». Но во время революций слава быстро приходит и быстро уходит; Лафайет образца 1792 года был тем же, что и три года назад, а страна была уже не та, и популярность его была уже далеко, далеко не та.
И все же шанс на успех был – небольшой, но был. В подобных случаях один решительный человек может изменить весь ход событий, к тому же нация вовсе не так уж была настроена против подобного переворота. Однако и на этот раз все погубил королевский двор.
Лафайет явился во дворец, чтобы предложить свои услуги. Его встретили холодно: здесь ему не простили ни его убеждений, радикально расходившихся с взглядами королевы, ни того, что два года назад он был самым влиятельным человеком в стране. Когда он удалился, сестра короля воскликнула: «Забудем прошлое, бросимся в объятья единственного человека, который может спасти нас!» Но королева гордо ответила: «Лучше погибнуть, чем быть спасенной Лафайетом!»
После этого попытка Лафайета была обречена. Он провел в Париже несколько дней и вернулся к армии. Забегая вперед, скажем, что после низвержения короля он попытался поднять армию и повести ее на мятежный Париж, но армия за ним не пошла; он вынужден был бежать к австрийцам, которые посадили его в тюрьму как опасного революционера. Его дальнейшая судьба тоже очень интересна, но к нашему рассказу о судьбе короля и Республики уже отношения не имеет.
Падение королевства
Через несколько недель, в ночь с 9 на 10 августа 1792 года, парижане вместе с «федератами» – прибывшими под Париж солдатами – двинулся на Тюильри.
Над восставшими развевается красное знамя, символ мятежа. Идут люди Сент-Антуанского предместья, идут марсельские волонтеры под командой красавца Барбару; Дантон впереди… А там, за оградой Тюильри – верные швейцарцы, готовые ради долга умереть за чужого короля; еще более верные ci-devant (бывшие) дворяне из распущенной гвардии, явившиеся защищать своего короля уже не по долгу присяги, а по зову сердца… А у окна одного из домов на площади Карусели спокойно стоит и наблюдает за событиями один молодой поручик по фамилии Бонапарт…
Король проводит смотр своих войск. Но это не тот человек, который мог бы вдохнуть в них уверенность, после смотра королева сказала: «Все погибло! Этот смотр принес больше вреда, чем пользы».
Между тем во дворец явился посланец от Законодательного собрания, бывший член Учредительного собрания (и будущий член Государственного совета при Наполеоне) Рёдерер, чтобы предупредить короля, что ему грозит опасность (будто он сам не знал!), и посоветовать ему покинуть дворец. Король последовал этому совету и отправился в Законодательное собрание.
Ничего хуже этого он сделать не мог. Не будем говорить о том, что король, наследник тысячелетней династии, обязан был защищать свой дворец и свою корону и в худшем случае пасть с честью, как сделал последний византийский император в ситуации куда более безнадежной. Но даже если думать лишь о спасении жизни его семьи, он поступил неразумно. К концу следующего 1793 года погибли почти все, кто был в ту ночь в осажденном дворце.
И все же даже после ухода («дезертирства») короля швейцарцы, в принципе, имели реальный шанс удержать дворец и тем переломить – хотя бы на время – ход событий. Революционеры были далеко не уверены в успехе. Якобинцы в ту ночь были малоактивны. Где были тогда Марат и Робеспьер, вообще неизвестно; позже лидер жирондистов Верньо, отвечая на упрек в умеренности, воскликнет с трибуны Конвента: «Умеренные?! Мы не были умеренными, Робеспьер, в ту ночь, когда ты прятался в подземельях!»