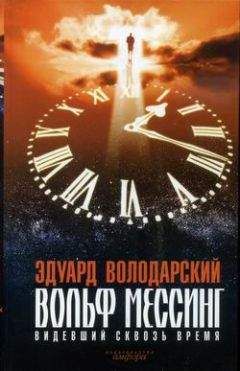Евгений Марков - Барчуки. Картины прошлого
— Ай да барчуки, ай да славно! Вот так дело затеяли! К яблоньке привяжу, папенька вас за то похвалит! Ей богу, привяжу!
Вздрогнут разом все косточки, все жилки от этого проклятого набата; так и застынешь на месте. А он гудёт себе, не останавливаясь, всё громче и сердитее; а семимильные сапоги шагают да шагают, — и один за одним попадаются в железную лапу семибратские герои, словно в волшебной сказке компания мальчика с пальчик к великану-людоеду.
Мы неясно верили, что Роман может привязать к яблоне даже саму маменьку. И право, кажется, маменька немножко побаивалась его колокольного голоса. В саду Роман просто-напросто не давал делать того, чего он не одобрял, как бы ни кричали на него.
А что касается до гостей, гувернанток и других лиц, которым он отказывал в правах на наш сад, то грубость его не хотела знать никаких компромиссов.
Бедная Амалия Мартыновна, немка наша, раз едва не заболела от испуга. Читая свою немецкую книжку, зашла она в малинник и стала рвать ягоды, предполагая себя в совершенном одиночестве. Вдруг из самой чащи малинника треснуло её, как дубиною:
— Ай да губернанка, ай да славно! Хорошему барчуков учишь!
И из-за куста малины выросла плечистая фигура Романа с палкою в руке. Напрасно маменька потом бранила его и грозила ему, и хотела жаловаться папеньке. Роман не уступал:
— Нет уж, сударыня, как вам угодно, а этому не бывать, чтобы немка у меня ягоду травила! — гудел он. — С меня взыскивать изволите, так я должон свой порядок наблюдать; она у меня честным манером попроси, так я ей сколько следует отпущу, а сама рукам воли не давай! Коли я садовник, так кажному нашлому человеку хозяином у меня в саду не бывать!
И так-таки не подпускал к ягоде бедную Амалию Мартыновну, которая его боялась хуже цепной собаки.
Зато самого себя Роман не обижал. Он крал яблоки так бессовестно, что эта бессовестность походила на чистосердечие. Казалось, он даже стыдился скрывать, что таскает яблоки, словно был уверен, что никто не смеет лишить его этого законно ему принадлежащего, как бы природного его права.
Впрочем, такое убеждение вообще господствовала во всей лазовской дворне. Садовник считал своим призванием таскать из саду яблоки, арбузы и ягоды, и в этом именно видел своё профессиональное отличие от какого-нибудь ключника, которого обязанность, по его мнению, заключалась в отсыпке себе разного зерна из господских амбаров; или от птичника, который имел право пользоваться только яйцами, птицею и отпускаемою на неё кашею. Повар потому считался поваром, что он кормил своих свиней при барской кухне и отвешивал себе господское масло и сахар; а кучер потому был кучером, что он, а не кто другой, продавал в кабаке овёс и сено, отпускаемые на конюшню.
В этих границах каждый из них был исполнителем своего назначения, пользовался законными правами своего звания. Но если бы кучер, а не повар, взял из кухни кусок говядины; если бы повар, а не кучер, отсыпал из яслей овса, — тогда и кучер, и повар были бы признаны ворами, нарушителями чужих прав. Поэтому, строго говоря, для них следовало бы прибрать иные, более к делу подходящие, звания; например, ночной вор — вместо ночного сторожа, садовый вор — вместо садовника, амбарный вор — вместо ключника, и тому подобное.
Когда Роман шёл из сада завтракать или обедать в свою избу, его широкие хохлацкие штаны всегда были шире и полнее обыкновенного; и мы очень хорошо знали, что в каждом Романовом кармане помещается в это время по крайней мере полмерки яблок. Походка Романа делалась в эти минуты какою-то неохотною и выражение лица суровым до неприступности. Словно шёл не человек, а невыспавшийся медведь.
Хотя Роман проходил мимо хором, как и все, без шапки, но несмотря на этот знак почтительности, глядя на его приближение, можно было думать, что он двигается к барскому дому с каким-нибудь решительным враждебным намерением. Папенька терпеть не мог фигуры Романки. При его виде он обыкновенно сердито хмурился, ворчал что-то про себя и неодобрительно отворачивался в сторону. Роман, с своей стороны, ещё меньше любил встречи с папенькою, особенно обременённый контрабандою, которую ему постоянно приходилось носить мимо кабинетного балкона.
С нами дворовые мало чинились, потому что мы никогда ничего не пересказывали про них. И Роман весьма свободно описывал нам иногда папеньку с совершенно оригинальной для нас точки зрения. Раз даже он назвал его при нас «тузом», что вызвало взрыв самого сердечного хохота в кучерах и других слушателях, а мы сейчас же ушли, смущённые и обиженные, но папеньке об этом всё-таки не сказали. Туз был наш заводской жеребец, который постоянно ржал, кусался и становился на дыбы, так что к нему боялись подходить.
Во дворне Роман Петрович пользовался известным почётом. Романова изба была самым весёлым приютом в праздничные дни. Ларивон, приказчик Иванушка, Николай башмачник были денежнее и основательнее Романа. Но Роман был всех тароватее. На разговенье, на Михайлов день, на Варвару-мученицу — нигде столько не пили водки, как в Романовой избе. Роман был бездетен, а жена его Варвара-коровница была такого же беззаботного характера и пила не хуже мужа, так что сдерживающего элемента не было ни с какой стороны.
Остроумец и книжник Лазовки Николай-столяр предпочитал Романово веселье всем другим. Роман был горлан и балагур ему под стать; он был почти такой же esprit-fort, вольнодумец и грубиян. Вдвоём они морили со смеху лазовскую публику анекдотами о сударыне-барыне, о попе, попадье и поповой дочке. Николай представлял, как папенька бил его по морде, подпрыгивая от земли. Слушатели лежали без животов, а Николай, не улыбаясь, не торопясь, угощал их одною прибауткою за другой. Так как водка выменивалась в кабаке на барские яблоки, огурцы солились прямо с барских парников и огородов, а барский творог со сметаною и маслом собирался Варварою-коровницею, то, само собою разумеется, на Романовом столе в этих случаях недосолу не было.
Редкий праздник проходил для Романа благополучно. Его сомовье горло, и обыкновенно широкое, делалось от зелена вина пастью Левиафана. Беда была нарваться на него в такую минуту. Как нарочно, приказчик Иванушка и дворецкий Ларивон напивались в те же самые дни, как и Роман.
Ларивон был закоренелый враг Романа, и схватки с ним были самые жаркие. Ларивон орал, взвизгивая, раздирающим голосом, словно его потрошили. Слова у него лились неудержимым потоком; всё это были слова хитрые, малопонятные лазовской дворне, обороты речи поражали неожиданностью и оригинальностью; обвинения и угрозы, которые он сыпал на голову Романки, способны были смутить самый мужественный дух. Даже балагур и сказочник Лазовки Николай-столяр, эта ходячая дворовая литература, и тот, стоя среди толпы любопытных, всегда жадно обступавшей ругавшихся, — громко выражал своё изумление неистощимому творчеству и разнообразию Ларкиной брани. Внимательно склонив одно ухо к стороне боя, с сосредоточенной серьёзностью он, как беспристрастный судья турнира, казалось, взвешивал силу и цену этих быстро чередовавшихся ударов слова.
— Ну и здоров же он брехать, наш Ларивон Тимофеевич, дай ему Бог здоровья! — рассуждал вслух Николай полуудивлённо, полунасмешливо. — Ядовит: лает, что кусает!
Однако Романкину шкуру пробрать было трудно даже и Ларьке. Самые отчаянные возвышения Ларькина тона, доходившие до собачьего вытья, самые неожиданные выходки Ларькина остроумия барабанили по чугунному лбу Романа, как мелкий град по железной крыше, безвредно звеня и не оставляя даже царапины. Из груди Романки гудел в ответ бычий рёв, на сплошном фоне которого выделывала свои фиоритуры злобная фистула Ларивона; а навстречу его злоухищрённым увёрткам с топорного языка Романки шли неповоротливые короткие слова, гвоздившие, словно дубовые обрубки, без обиняков…
Конца таким схваткам долго не дождёшься. Дворня, бросив работу, стоит амфитеатром вокруг, как на представлении, и её присутствие ободряет соперников. Уже голоса их заметно хрипнут, повторения делаются чаще, доводы слабеют; у Ларивона рот в пене, у Романа на огромной лысой голове жилы делаются темны, как синька.
Марья Ларивонова осмеливается тогда явиться на поле битвы и хватает «свово» за полу:
— Да заткни пасть-то, заткни; постыдись добрых людей! — вопит она, силясь увлечь «свово» в избу и увёртываясь в то же время от ударов кулаков, которыми мимоходом наделяет её Ларивон, не прекращающий ни на секунду своего словоизрыгания.
Варвара-коровница, совсем пьяная, красная и слёзно причитающая, пытается с другой стороны оттянуть своего мужа.
— Уйди, Романушка, уйди, голубчик, — плачет она, повисая на Романовой руке и отчаянно мотая головою. — Все-то тебя, Романушку мово, обижают; оставь его, пса цепного, нечто пса перебрешешь? Иди, голубчик, в избу, испей водочки…