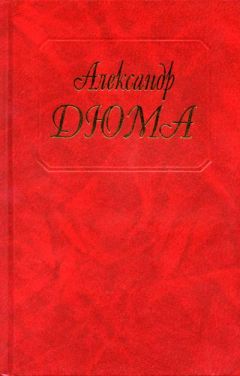Александр Дюма - Графиня Де Шарни
Заметив, что Мирабо еще дышит, вернее, издает предсмертные хрипы, принц Евгений приказывает отнести его в лагерь герцога Вандомского. Приказание исполнено. Маркиза помещают в палатке принца, где случайно оказывается знаменитый хирург Дюмулен. Этот человек был известен своими фантазиями: ему приходит в голову вернуть почти мертвого маркиза к жизни, что казалось совершенно невозможным, поскольку все его тело представляло собою открытую рану. Трое суток он не приходит в сознание. Наконец открывает глаза; спустя еще два дня поднимает руку; и вот через три месяца маркиз Жан-Антуан появляется в свете с рукой на черной перевязи. У него было двадцать семь ран, на пять больше, чем у Цезагя, а его голову поддерживало нечто вроде серебряного ошейника. Первый свой визит он нанес в Версаль, куда его повез герцог Вандомский и где он был представлен королю; тот его спросил, каким образом могло статься, что, обнаружив такое неслыханное мужество, он до сих пор не маршал. «Государь! — отвечал маркиз Антуан, — если бы вместо того, чтобы защищать мост в Кассано, я явился ко двору и подкупил какого-нибудь мошенника, я бы получил свое продвижение ценой меньшего количества ран». Таких ответов Людовик Четырнадцатый не любил: он показал маркизу спину. «Жан-Антуан, друг мой, — заметил ему после приема герцог Вандомский, — отныне я буду представлять вас врагу, но королю — никогда». Несколько месяцев спустя маркиз, несмотря на двадцать семь ран, сломанную руку и серебряный ошейник, женился на мадмуазель де Кастелан-Норант и подарил ей семерых детей в перерывах между семью новыми военными кампаниями. Изредка, как и подобает настоящим храбрецам, он рассказывал о знаменитом сражении при Кассано, приговаривая:
«В том бою я был убит».
— Вы, доктор, совершенно замечательно рассказываете мне о том, как маркиз Жан-Антуан «был убит», — перебил его Людовик XVI, с видимым удовольствием знакомясь с родословной Мирабо, — однако вы мне не сказали, как он «умер».
— Он умер в главной башне родового замка Мирабо, сурового и мрачного прибежища, расположенного на утесе, загораживающем вход в ущелье и потому с двух сторон обдуваемом ледяным ветром; он умер, покрывшись, словно панцирем, толстой и задубевшей кожей, что случалось со всеми Рикети; он воспитал детей в повиновении и почтительности к старшим и держал их на таком расстоянии, что его старший сын говаривал: «Я никогда не имел чести ни коснуться его руки, ни ощутить на себе прикосновения его губ, ни просто дотронуться до этого почтенного господина». Этот самый старший сын и стал отцом нынешнего Мирабо; это — дикая птица, свившая себе гнездо в четырех башнях; никогда он не желал «выворачиваться наизнанку», как он говорит; в этом, по-видимому, и кроется причина того, что вы, ваше величество, его не знаете и потому не имеете возможности оценить его по заслугам.
— А вот и нет, доктор! Я, напротив, его знаю: он — один из тех, кто возглавляет экономическую школу. Он сыграл свою роль в происходящей революции, подав сигнал к проведению социальных реформ и сделав общедоступными многие глупости и немногие истины, что совершенно непростительно с его стороны: ведь он предвидел то, что должно произойти, он говорил: «Сегодня нет такой женщины, которая не носила бы под сердцем Артевельде или Мазаньелло». И он не ошибался: его собственная женишка родила кое-кого почище их!
— Государь! В Мирабо есть нечто такое, что претит вашему величеству или пугает вас; позвольте вам заметить, что в этом повинны ваш человеческий деспотизм, а также деспотизм короля.
— Деспотизм короля?! — вскричал Людовик XVI.
— Разумеется, государь! Без разрешения короля отец не мог бы с ним сделать того, что сделал. Какое страшное преступление мог совершить в свои четырнадцать лет отпрыск этого великого рода, если отец отправил его в исправительную школу, где его записывают для пущего унижения не под именем Рикети де Мирабо, а как Буффиера? Что такого мог он сделать в восемнадцатилетнем возрасте, если родной отец выхлопотал для него указ о заточении без суда и следствия и добился его заключения на острове Ре? Что мог он совершить, будучи двадцатилетним юношей, если отец посылает его в дисциплинарный батальон на Корсику с таким пожеланием: «Пусть его высадят шестнадцатого апреля следующего года прямо в море. Дай Бог, чтобы он не выплыл!» За что отец сослал его в Манок год спустя после его бракосочетания? За что через полгода после изгнания отец приказал перевести его в форт Жу? За что, наконец, после побега его арестовали в Амстердаме, препроводили в Венсенский замок и заключили его в камеру — а ему ведь и на свободе-то тесно! — площадью в десять квадратных футов — вот королевская щедрость вкупе с родительской любовью! Пять лет он сидит в темнице, где пропадает его молодость, кипит страсть, но где в то же время зреет его ум и крепнет душа… Я скажу вашему величеству, что он сделал и за что был наказан. Он совершенно очаровал своего преподавателя Пуассона тем, с какой легкостью он все запоминал и понимал; он вдоль и поперек изучил экономику; раз выбрав военную карьеру, он хотел продолжать службу; будучи принужден жить на шесть тысяч ливров ренты вместе с женой и ребенком, он наделал долгов на тридцать тысяч франков; он сбежал из Манока, чтобы отколотить палкой наглеца, оскорбившего его сестру; и вот, наконец, он совершает свое самое страшное преступление, государь: не устояв перед молоденькой и хорошенькой женщиной, он похитил ее у сурового, ревнивого, дряхлого старика.
— Да, доктор, и сделал он это только затем, чтобы ее бросить, — заметил король, — а несчастная госпожа де Моннье, оставшись одна, покончила с собой.
Жильбер поднял глаза к небу и вздохнул.
— Ну, что вы на это ответите, доктор? Что вы можете сказать в защиту вашего Мирабо?
— Правду, государь, только правду, которой так трудно пробиться к королям, что даже вам, любителю правды, она далеко не всегда известна. Нет, государь! Госпожа де Моннье покончила с собой вовсе не из-за того, что ее оставил Мирабо, потому что, едва выйдя из Венсенского замка, Мирабо в первую очередь бросился к ней. Переодевшись разносчиком, он проникает в монастырь Жьен, где она нашла приют; он видит, что Софи к нему охладела, держится скованно. Они объясняются. Мирабо замечает, что госпожа де Моннье не только его не любит, но что она влюблена в другого: в шевалье де Рокура. Ее муж скончался, и она намерена выйти замуж за Рокура. Мирабо слишком рано вышел из тюрьмы; кое-кто рассчитывал на его отсутствие в обществе, теперь приходится довольствоваться тем, что нанесен удар его чести. Мирабо уступает место счастливому сопернику, Мирабо уходит. Итак, госпожа де Моннье собирается выйти замуж за господина де Рокура; господин де Рокур внезапно умирает! А она, бедняжка, всю себя отдала этой последней любви. Месяц тому назад, девятого сентября, она заперлась в своей комнате, намеренно оставила горящие угли и закрыла печь. А враги Мирабо и давай кричать, что она умерла потому, что ее бросил первый любовник, в то время как она умирает от любви к другому… Ах, история, история! Вот как она пишется!
— Стало быть, вот отчего он с таким равнодушием отнесся к этому известию?
— Как он к нему отнесся, я тоже могу рассказать вашему величеству, потому что я знаю, кто эту новость принес: это один из членов Национального собрания. Спросите у него сами, он не сможет солгать, потому что это священнослужитель из монастыря Жьен, аббат Вале; он занимает место на скамье, противоположной той, где сидит Мирабо. Он прошел через весь зал и, к величайшему изумлению графа, сел рядом с ним. «Какого черта вы здесь делаете?» — спросил его Мирабо. Аббат Вале молча подал ему письмо, в котором во всех подробностях рассказывалось о трагическом происшествии. Мирабо распечатал письмо и долго читал; должно быть, он не мог этому поверить. Потом он еще раз стал перечитывать письмо, сильно изменившись в лице и побледнев; время от времени он проводил рукой по лицу, смахивал слезу, кашлял, пытался взять себя в руки. Наконец он не выдержал, встал, торопливо вышел из зала и три дня не появлялся на заседаниях Национального собрания… Государь! Простите мне все эти подробности; достаточно быть просто гением, чтобы на тебя клеветали по любому поводу; чего же ждать в том случае, когда дело доходит до не просто гения, а колосса?!
— Почему же дело обстоит именно так, доктор? Какая выгода в том, чтобы очернить в моих глазах господина де Мирабо?
— Какая в том выгода, государь? Посредственность жаждет удержаться около трона. А Мирабо — из тех, кто, входя в храм, выгоняет из него торгующих. Окажись Мирабо рядом с вами, государь, тут-то и наступил бы конец всем мелким интригам; появление около вас Мирабо будет означать изгнание ничтожных интриганов, ведь он — гений, прокладывающий дорогу к честности. И какое значение для вас, государь, может иметь то, что Мирабо не ладил с женой? Что вам до того, что Мирабо похитил госпожу де Моннье? Почему вас должно смущать, что у Мирабо — полумиллионный долг? Расплатитесь за него с этими долгами, государь; прибавьте к этой сумме миллион, два, десять миллионов, если потребуется! Мирабо свободен, не упускайте Мирабо; берите его, назначьте его своим советником, министром; прислушайтесь к его мощному голосу и повторите его слова своему народу, Европе, всему миру!