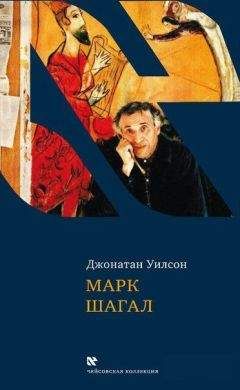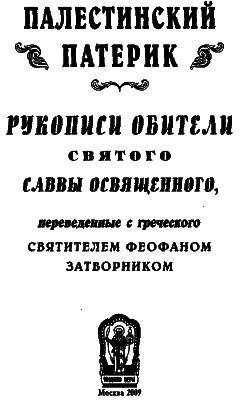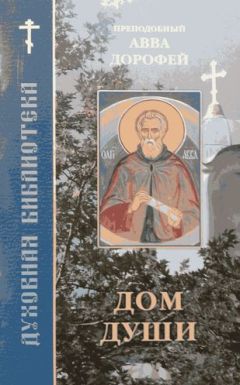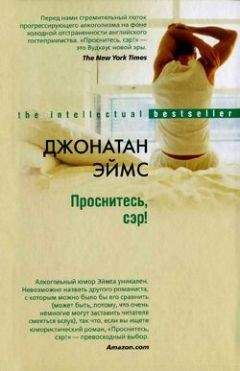Палестинский роман - Уилсон Джонатан
Наклонилась к водителю. За рулем был все тот же Арон, которые вез ее домой из отеля «Алленби» после первого ужина с Фрумкиным.
— Куда мы едем? Что за маршрут?
Арон чуть сбавил скорость.
— На север: Наблус, Дженин, Назарет, Хайфа. Мистер Фрумкин нас там встретит.
— Я так поняла, что мы встретимся возле Беэр-Шевы…
— В Хайфе, — лаконично ответил Арон, как будто, что там поняла или не поняла Джойс — не имело ни малейшего значения.
Джойс уселась поудобнее.
— У вас есть что-нибудь попить? — спросила она.
— Можно сделать остановку в ближайшей деревне.
Арон заехал во двор возле развалин какой-то старинной церкви. Вышел и скрылся в крошечной лавке, у входа в которую под рваным парусиновым навесом стояли в ряд ящики с огурцами. Джойс проводила его взглядом, потом решила поближе посмотреть на руины. У входа в церквушку торчала на палке дощечка-указатель, под слоем пыли с трудом можно было разобрать слова: «Здесь, на обратном пути из Иерусалима, родители маленького Иисуса тосковали по нему, думая, что он потерялся». Эта неожиданно трогательная надпись поразила Джойс, навеяв грустные мысли. Ее родная мать, похоже, никого кроме себя не замечала, а отец, хоть и заботился о ней в раннем детстве, предпочел поскорее сбыть ее с рук и отправил в колледж. Понятно, у него были интересы и помимо семьи. Интересно, кто-нибудь на свете хоть раз «тосковал» по ней? Роберт Кирш — само собой, бедный щеночек, но точно не Марк. Он ее любил, в этом сомнений не было, но по-настоящему его удручали лишь провальные выставки или ненаписанные картины. Отсутствие Джойс — когда она уезжала к друзьям на выходные или в Америку навестить мать, — он замечал не больше чем перемену погоды за окном мастерской: ну, свет чуть потускнел и надо чуть изменить цветовую гамму, не более того. Джойс усмехнулась: вот еще, жалеть себя вздумала — эту презренную слабость она вытравила много лет назад. Еврейки на рабочих фермах уж точно себя не жалеют. Джойс вспомнила женщину, свою ровесницу, которую видела в порту Хайфы: коротко стриженная, примерно ее возраста, в платье прямого покроя с кожаным ремнем и в простых сандалиях, она лихо орудовала лопатой, забрасывая уголь в мешки. Впервые она увидела настоящий труд в Палестине — все, о чем говорилось в Лондоне, вдруг предстало живой картиной, — и это было восхитительно. Реакция Марка оказалась более сдержанной. Наверно, подумала она, ему неловко, что женщины так вкалывают.
Из магазина вышел Арон с пачкой сигарет и коробкой спичек. Предложил Джойс сигаретку. Она закурила, жадно вдыхая едкий дым. У Арона, заметила она, пальцы желтые от никотина.
— Под горой есть источник, — сказал он. — Там наполним бутылку.
Вода была прохладной и приятной на вкус. Джойс плеснула немного на пальцы и провела, как наносят духи, по запястьям и за ушами.
Минут через пять они оказались в узкой долине. Арон, продолжая рулить одной рукой, указал направо:
— Зимой тут пруд.
Джойс разглядывала ландшафт. И вдруг, среди ближневосточной жары, вспомнила нью-йоркский каток и свое черное вельветовое платьице с алой бархатной подкладкой, раструбами на рукавах и фестонами по подолу — отцовский подарок ко дню рождения. Она, восьмилетняя, нарезала круги по пруду Риджли, и алый бархат вспыхивал в сером декабрьском свете.
— После дождей здесь скапливается вода, — продолжал Арон.
Они преодолели выжженный горный хребет — и вдруг стало видно все, как на ладони, до самого Средиземного моря, поблескивавшего серо-голубой полоской на горизонте. Арон, поглядывая в зеркало, сбавил скорость, чтобы Джойс полюбовалась видом, но тут их нагнал тарахтящий грузовик и попытался объехать. Арабы-рабочие в кузове улыбались и приветственно махали Джойс, Арон еще сбавил скорость, не желал уступать. Шофер грузовика нажал на гудок, жестами показывая, что хочет проехать. Арон еще замедлил ход, машина еле ползла. Шофер грузовика все сигналил, а его пассажиры кричали, размахивая лопатами и мотыгами.
Джойс тронула Арона за плечо.
— Хватит, — сказала она, — это просто смешно.
Он пожал плечами:
— Подождут. Поверьте мне, им некуда спешить, во всяком случае ничего важного у них быть не может.
Но все же нажал на газ и прибавил скорость.
Под Наблусом из-за лопнувшей шины они застряли на три часа. Пока Арон договаривался с механиками в ближайшем гараже, Джойс коротала время в маленьком кафе, попивая мятный чай. В обоих заведениях на самом видном месте висели фотопортреты Хадж-Амина аль-Хусейни — верховного муфтия Иерусалима, и там и там он смотрел сурово. Выкрашенные зеленой краской трещиноватые стены кафе украшала еще и роспись — панорама Старого города с непомерно большими мечетями, занимающими чуть не все пространство внутри его стен. А евреев в нем как будто и не было. Каждая из сторон, подумала Джойс, делает вид, что другой не было и нет. Если строго по численности, то, может, у арабов больше на это прав, чем у евреев, и все же, хоть евреи и в меньшинстве — Джойс не сомневалась, что Палестина, по крайней мере ее большая часть, принадлежит им. Как она пришла к этой мысли? Сидя за деревянным столиком с чашкой дымящегося чая, вдыхая аромат листьев «нана», Джойс вдруг с пугающей ясностью поняла, что, возможно, в Лондоне ее завораживала не только практическая часть сионистской мечты — пасторальная, социалистическая, утопичная, — которую так трогательно преподносили горячей, жаждущей перемен публике в Тойнби-Холле, — ее манила надежда на то, что когда-нибудь в отдаленном будущем эта мечта поможет покончить с одиночеством евреев. А в то время, из-за ее отношений с Марком, это единственное, к чему она стремилась всем сердцем. Так, может, ее увлеченность сионизмом — сугубо личного свойства? Нелепая мечта изменить Марка, изменив мир? В последний год, с тех пор как муж охладел к ней, сионизм, похоже, стал ее единственной надеждой и святыней. Марк не подозревал, на скольких она побывала собраниях, он понятия не имел о людях, чьи имена она шептала украдкой, а фамилии Арлозоров [63] или Бубер [64] стали для нее такими же привычными, как Сезанн или Ван Гог. И когда она зимними вечерами под дождем спешила на Фордуич-роуд якобы в театр или на концерт, он подозревал, наверно, что у нее тайный любовник. В каком-то смысле так и было, но только, разумеется, делала она это ради него. Однако мечты ее были обречены. Вейцман и его еврейское государство не вызывали у Блумберга ничего, кроме насмешки, именно поэтому она не посвящала его до конца в свои дела. Хотя он, еврей среди англичан, тоже натерпелся. Но в своем отщепенстве он, похоже, черпал силы для творчества. И больше всего на свете боялся лишиться этой опоры.
В Хайфу они приехали затемно. Возле порта смутно проступали квадраты пакгаузов на берегу, сплотившихся точно заговорщики. Воздух здесь был влажный, солоноватый: у Джойс было ощущение, как будто руки, ноги и лицо покрыты тонким слоем жира и соли. Волосы на затылке Арона блестели от пота. Шелудивый пес сунулся наперерез, выхваченный из темноты светом фар. Арон затормозил, пропуская его, потом заехал в переулок и заглушил мотор. Море было где-то совсем рядом, Джойс слышала, как волны бьются о причал. Арон вышел, открыл пассажирскую дверцу. Ноги у Джойс были как ватные, но она встала и пошла следом за ним. Метров через сто он вдруг нырнул в узкий проход, невидимый с того места, где они оставили машину. Подошел к железной дверце, порог которой находился в полуметре от земли — если бы не дверь, эта кирпичная стена ничем не отличалась бы от соседних. Постучал два раза. Лязгнула щеколда. Выглянул Фрумкин — в слабом свете луны, затянутой облаками, его лицо белело смутным пятном. Увидев Джойс, он улыбнулся и протянул ей руку, помогая перешагнуть через порог.
— Я знал, что вы приедете, — сказал он.
— А я — в отличие от вас — этого не знала, — ответила Джойс.