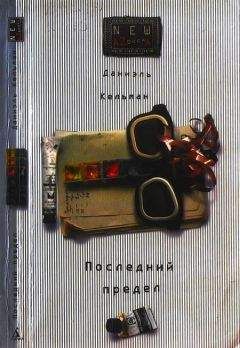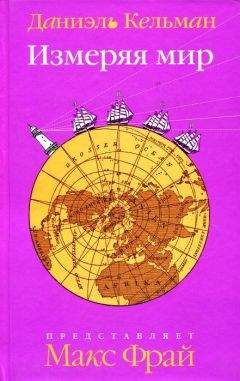Тилль - Кельман Даниэль
На рассвете они отправились в путь. Обошли поле боя, от которого веяло запахом, какого толстый граф раньше не смог бы вообразить, и направились в сторону Вены через Шлипсхайм, Хайнхофен и Оттмарсхаузен. Уленшпигель знал дорогу, был рассудителен и спокоен и больше не сказал толстому графу ничего обидного.
Ландшафт, сперва такой пустынный, начал наполняться людьми. Крестьяне тянули за собой тележки с пожитками; отбившиеся солдаты искали свои отряды и семьи; раненые сидели у дороги, перевязанные кое-как, вперив взгляд в пустоту. Пройдя к западу от горящего Оберхаузена, толстый граф и шут добрались до Аугсбурга, где собрались выжившие солдаты императора. После поражения их оставалось немного.
От военного лагеря перед городом шел еще более страшный смрад, чем от поля битвы. Искалеченные тела, нарывы на лицах, открытые раны и кучи испражнений отпечатались в памяти толстого графа, как видения ада. «Я никогда не буду прежним», — думал он, пока они пробирались к воротам. И в то же время думал: «Это просто цвета и формы, они не могут мне ничего сделать, это просто цвета и формы». И он принялся представлять себе, что он — это кто-то другой, кто-то невидимый, идущий рядом, но не видящий того, что видит он.
Ранним вечером они дошли до городских ворот. Волнуясь, толстый граф представился стражникам, которые, к его удивлению, без колебаний поверили ему и впустили в город.
Их величества зимой
Стоял ноябрь. Запасы вина иссякли, а колодец во дворе был грязен, так что пили они одно только молоко. Они не могли позволить себе свечей, и с заходом солнца весь двор ложился спать. Да, дела обстояли плохо, но все же были еще на свете венценосные мужи, готовые погибнуть за Лиз. Недавно один такой навестил ее здесь, в Гааге, — Христиан Брауншвейгский, — и пообещал, что прикажет вышить pour Dieu et pour elle на своем штандарте, а затем, и в этом он страстно поклялся, либо победит, либо погибнет за нее. Принц был так взволнован собственным будущим геройством, что на глазах его выступили слезы. Фридрих успокаивающе похлопал его по плечу, а она протянула ему платок, отчего он разрыдался еще пуще, настолько поразила его мысль о том, что она даровала ему вещь из собственных рук. Приняв королевское благословение, он в крайнем возбуждении отправился своим путем.
Конечно, ему не одержать победы ни за Господа, ни за нее. У этого принца было мало солдат, да и ума немного, а денег не было вовсе. Чтобы одолеть Валленштейна, нужен другой калибр, нужен кто-то вроде шведского короля, который сошел недавно на империю, как гроза, и пока что не проиграл ни единой битвы. Это за него она должна была в свое время выйти по плану папа́, да только он не пожелал.
Уже почти двадцать лет прошло с тех пор, как она вместо этого пошла за бедного своего Фридриха. Двадцать немецких лет, вихрь событий и лиц, и шума, и дурной погоды, и отвратительной пищи, и вовсе уж невыносимого театра.
По хорошему театру она скучала сильнее всего с самого начала, сильнее даже, чем по пристойной кухне. В немецких землях не знали настоящего театра — взамен по дождливым дорогам странствовали жалкие комедианты, умевшие только кричать, прыгать, драться и шумно пускать газы. Виной, верно, был неуклюжий язык, этот взвар стонущих и хрюкающих звуков; не годилась для театра речь, звучащая, будто кто-то давится, будто корова закашлялась, будто у человека пошло носом пиво. Что на таком языке можно сочинить? И все же она дала в свое время шанс этой их немецкой литературе, читала Опица и еще другого, забыла, никак было не упомнить их фамилии, все они звучали на один лад, эти Краутбахеры, и Энгелькремеры, и Каргхольцштайнгрёмпфли, а если ты выросла на поэзии Чосера, если тебе посвящал стихи Джон Донн — «fair phoenix bride, — писал он, — and from thine eye all lesser birds will take their jolity», — то, при всей вежливости, никак не заставить себя делать вид, что немецкое блеянье чего-то стоит.
Она часто вспоминала придворный театр в Уайтхолле. Вспоминала тонкие жесты актеров, длинные фразы с их переменчивыми, как музыка, ритмами, то стремительно журчащие, то медленно замирающие, то вопросительные, то требовательные. Когда она навещала родителей при дворе, всякий раз там игрались спектакли. Люди стояли на сцене и притворялись, но Лиз сразу поняла, что все сложнее, что притворство лишь казалось притворством, что как раз только в театре и не было притворства, фальши и пустой болтовни. Только на сцене люди были самими собой, истинными, совершенно прозрачными.
В жизни никто не произносил монологов. Все держали свои мысли при себе, и по лицам тоже ничего было не прочесть, каждый тащил за собой мертвый груз своих тайн. Никто не стоял в одиночестве посреди комнаты, вслух рассуждая о своих мечтах и страхах, — но когда Бёрбидж делал это на сцене, когда он говорил своим скрипучим голосом, поднося тонкие пальцы к лицу, неестественным казалось, как все остальные вечно прячут то, что у них внутри. А какие он при этом произносил слова! Яркие, редкие, переливающиеся, как драгоценные ткани. И каждая фраза сложена безупречно, как самой никогда не сложить. «Вот как надо говорить, — учил тебя театр, — вот как держаться, вот как чувствовать; вот какой он, настоящий человек».
Когда спектакль заканчивался и аплодисменты стихали, актеры возвращались в сословие обычных, жалких людей. Уже выходя на поклон, они напоминали потухшие свечи. Согнувшись в три погибели, все они — Аллейн, и Кемп, и сам великий Бёрбидж — подходили целовать руку папа́ и если папа́ задавал им вопрос, то отвечали они, будто им противится язык, будто им не под силу сложить стройную фразу. Лицо Бёрбиджа было усталым и неживым, будто из воска, и его длинные пальцы выглядели отталкивающе. Поверить было невозможно, как быстро его покидал дух легкости.
Этот дух был персонажем одной из пьес, что игралась в День Всех Святых. Речь там шла о старом герцоге на волшебном острове, что брал в плен врагов только для того, чтобы их неожиданно пощадить. Тогда она не могла понять, почему он вел себя так добросердечно, и, когда задумывалась об этом сейчас, все еще не понимала. Если бы в ее власти оказался Валленштейн или император, она не дала бы слабины! В конце пьесы герцог взял и отпустил служившего ему духа, позволил ему слиться с облаками, воздухом, солнечным светом и морской синевой, и на сцене остался лишь только морщинистый актер. Он напоминал старый мешок из-под муки, да еще и попросил прощения за то, что пьеса на этом кончается. Роль эту тогда играл главный драматург «Слуг короля». Он не был великим актером, не сравнить с Кемпом или тем более с Бёрбиджем, было даже заметно, что он с трудом вспоминал текст, который сам же и написал. После представления он мягкими губами коснулся ее руки, и так как ее учили, что вежливость требует задать в этот момент какой-нибудь вопрос, она осведомилась, есть ли у него дети.
— Две дочери. И сын. Но он умер.
Она молчала, был черед папа́ вставить реплику. Но он ничего не говорил. Драматург смотрел на нее, она смотрела на него — ее сердце забилось чаще. Весь зал ждал, все господа в шелковых воротниках, все дамы в диадемах с веерами в руках, все смотрели на нее. И она поняла, что нужно продолжать. Таков уж папа́. Стоит положиться на него, как он тебя бросит. Она прокашлялась, чтобы выиграть время. Но много времени так не выиграешь. Нельзя же все прокашливаться и прокашливаться, так что толку от этого, в сущности, никакого.
Тогда она сказала, что ей очень жаль услышать о смерти его сына. «Господь отнимает свои дары столь же нежданно, как ниспосылает их, — добавила она, — нам не дано понять его испытания, но в них кроется мудрость, и, если пережить их достойно, мы становимся сильнее».
Одно мгновение она была горда своим ответом. Не всякий смог бы произнести такую речь перед всем двором, здесь требовалось прекрасное воспитание и острый ум.
Драматург улыбнулся и склонил голову, и вдруг ей показалось, что она только что опозорилась каким-то неуловимым образом. Она почувствовала, что краснеет, и, устыдившись этого, покраснела еще сильнее. Снова прокашлявшись, спросила, как звали сына. Не то чтобы ее это интересовало. Но ничего иного она не придумала.