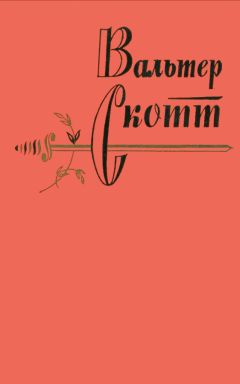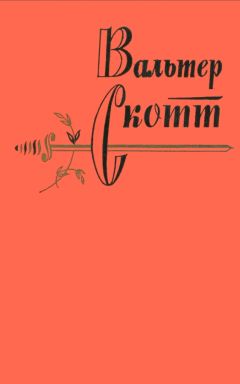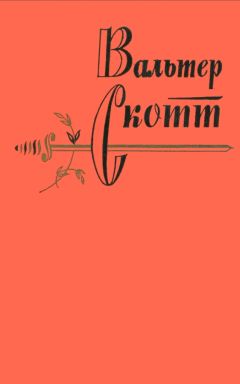Петр Петров - Белые и черные
— В хвосте-то лучше нам, старикам… словно в обозе, за армией, — со смехом заметил Шафиров, садясь на конце баржи под тень зонтика.
— Я с тобой совсем согласен, барон Пётр Павлыч. Где не видно нас, там всего лучше. А мы в свою очередь, невидные, можем видеть всех кого надобно али желательно нам, — отозвался Ушаков.
— А кого же тебе, к примеру сказать, желательно бы было видеть? — спросил его не без иронии граф Толстой.
— Да, разумеется, самых что ни есть хороших людей… Павла Иваныча, например, да самого светлого из светил, у которого наш бывший союзник спутником, бают, теперь…
— Ты всё по-учёному ныне разглагольствуешь, Андрей Иваныч…
— Умудриться, вестимо, хочется как в дураках остаёмся! Неравно ещё и в науку пойдём, граф Пётр Андреич. Доселе неразумен был, вишь… чуть по шее и не надавали… вот мы и смиренствуем и не показываем себя на очи, чтобы не вызвать гнев. Не мы первые, не мы последние за правду страдали. — Хитрец вздохнул.
— Конечно, друг, осторожность нигде не вредит, и никто из нас тебе не посоветует лучше, как ты сам ведёшь дело. Да сдаётся мне, сегодня-завтра Сашка останется в таком же точно положении, как был месяц назад… когда, по примеру твоей опалы, и его не приказано было пущать, как и тебя теперь…
— Это как? — недоверчиво спросил Ушаков, не вдруг вникнув в смысл слов Толстого.
— Сам поймёшь — как; коли глаза по старости не изменяют и можешь видеть, что происходит на передней барже.
Ушаков мгновенно направил в указываемую сторону рысьи глазки свои, и ему представилась картина, неожиданно изменившая выражение его лица из недовольно-сердитого в улыбающееся, слегка даже насмешливое.
Андрей Иванович усмотрел государыню в оживлённой беседе с одетым в пышный парчовый кафтан, ценностью, пожалуй, подороже, чем на женихе-герцоге, — князем Сапегою, лицо которого сияло беспредельным довольством. На губах её величества скользила самая благосклонная улыбка. А в нескольких шагах от этих праздничных физиономий мрачнее ночи стоял герцог Ижорский, очевидно вслушивавшийся в интересную для него беседу её величества с магнатом. Подле светлейшего видна была его горбатая свояченица и жена Ягужинского, относившаяся с почтением к цесаревне Елизавете Петровне. Сам Ягужинский, по старой дружбе, фамильярно держал за руку Авдотью Ивановну Чернышёву, болтавшую со смехом с шаферами жениха-герцога.
— Поладили, должно быть, все, — пробормотал Андрей. — А что будет дальше? И сам дедушка почешет в затылке, как спросить бы его.
— Да он бы тебе ответил, первое, что разгадка должна начаться с Сашки… Он, вишь, отец посажёный и должен выдавать любимое чадо со всеми пожитками, с которыми и не подумал бы расставаться, да велят! А затем пойми, что эту чёрную тучу на посажёного отца навёз не кто иной, как братец же его названый, которого он в сей момент готов бы, чего доброго, бултыхнуть в матушку Неву.
— Может, ты и прав, граф Пётр Андреич… по части Сапеги и Сашки, а чем же объяснишь ты мне чернышихину близость, спросил бы я тебя, умника?
— Да тем же самым, чем и первое. Ужели в толк не возьмёшь, что Сашку успели как болвана обойти — Сапега с Павлушкой, и подбили они его замолвить слово о Дуньке, мастерице сводить кого угодно… коли это самое требуется… А Дуня не спесива и не ломлива, не чета кому-нибудь другим, прочим. Поманили — она и тут как тут. И, посмотри, денёк-другой, Ильиничну она на первый случай спихнёт к новобрачной, а сама сладит что-нибудь совсем неожиданное. А Сашке в этом стряпанье приходится помои расхлёбывать да благодарить за угощенье. Вот он, как понял теперь всё, на стать… видит, что маху дал, — и надулся, и померк вконец. А погляди, что дальше будет. С горя как хватит за столом… да прорвётся, как ни есть безобразно … так что его и шемелой с двора, чего доброго?! И все это, очевидно, устроили друзья ему, приязни ради. А нам теперь не след им мешать… пусть и они потешатся да почванятся. Совсем не худо дать им простор на время, наше не уйдёт! Мы своё возьмём и магарыч доправим. Сашку-то их очередь спихнуть. А нам, подождавши да поосмотревшись, ещё ловчее можно будет резануть любого и повалить их, поодиночке, как заупрямятся; а нет — с остальными в договор войти. Вот что я усматриваю в этой каше, покуда…
Ушаков слушал с полным вниманием, но не считал себя в состоянии ни поддакнуть, ни опровергнуть загадываний Толстого, в которых на этот раз казалось ему мало вероятности для чьих бы то ни было выгод.
Погрузившись в думу, Андрей Иванович совсем перестал наблюдать сцену и чуть не последним вылез из баржи. Он близок был, казалось, к такому состоянию, при котором можно забыть о цели приезда, но его увлёк подвижный старик Толстой, которому думы не мешали все наблюдать и взвешивать.
Таща за руку почти с усилием совсем упавшего духом Ушакова, Толстой чуть не последним вошёл в собор и успел только добраться до решётки, за которою происходило венчание цесаревны.
Екатерина I стояла уже на своём месте с младшею дочерью и окружавшими дамами, из которых ближайшая к краю, княгиня Меньшикова, в костюме своём проявила в этот день такую пышность, что убор её блеском бриллиантов своих далеко превосходил и игру короны её величества. За крайним правым столбом стоял Сапега, сияя своею парчою и бриллиантами не меньше княгини Меньшиковой.
— Вот он где приютился! — сквозь зубы процедил старец и окинул глазами вокруг себя, ища своих спутников и собеседников; но вокруг него стояли все люди далеко не близкие и даже много таких, с которыми он никогда не заговаривал. Поэтому болтливому старцу пришлось довольствоваться немыми заключениями, ни с кем не делясь впечатлениями и догадками.
Шафирову выпала на этот раз более благодарная роль. В соборе он нашёл местечко подле генерала Бутурлина, а тот посвятил его шёпотом в положение дел, создавшееся чуть не накануне свадьбы цесаревны, далеко не выгодное для Меньшикова. Бассевич выражал неудовольствие на светлейшего князя по поводу денежных расчётов и теперь избегал с ним встречи. До поездки в церковь герцогу Ижорскому удавалось довольно удачно лавировать, но когда воротились в церемониальную галерею и сели за стол по нумерам, то пришлось верховному маршалу, отцу посажёному, сесть против первого министра голштинского двора и волей-неволей обращаться к нему, предлагая тосты. Например, первый тост провозглашён был государынею-родительницею — «за счастливое соединение!». Второй тост предложил герцог-новобрачный, отвечая благодарностию, с пожеланием «здравия, долгоденствия и полного исполнения желаний августейшей родительнице, императрице всея России». Голштинский министр провозгласил «благоденствие всего царственного дома всероссийского и народа русского, управляемого добрейшей и премудрейшей императрицей».
Ответом на это, разумеется, должно было последовать провозглашение:
— Да процветает Голштиния под скипетром наследственных герцогов, равно близких и России, и Швеции! — Но Меньшиков, погружённый в думу, сидел опустив голову, как бы отделившись от всего окружающего.
Бассевич не один раз взглядывал на недавнего своего друга, но тот хранил неприличное молчание, ещё ниже опустив голову. Бассевич, взбешённый, поводил взглядом, полным обиды, вокруг и около, но вдруг глаза его встретились с пламенным, ярким взором князя Сапеги, который понимающе кивнул ему головой и приподнялся с своего места. Бассевич послал ему взгляд благодарности, поняв, что ему на выручку является неожиданный союзник. Сапега уже действовал. Он подошёл к государыне и вполголоса молвил:
— Ваше величество, позвольте мне, в качестве облагодетельствованного вашим августейшим вниманием, ответить на тост министра вашего светлейшего зятя: пожеланием благ вашему и голштинскому родам, соединяющимся для будущего благоденствия.
— Благодарю, князь, вы отгадываете моё желание; уполномочиваю вас, в качестве моего преданного, как вы говорите, слуги… фельдмаршала моего, произнести…
Сапега поднял бокал и громким голосом произнёс:
— Да здравствуют августейшие родственные фамилии, императорский род всероссийский и герцогский Голштейн-Готторпский, в лице юных отраслей их, ныне соединённых на общее благо! Урраа!
Громовое «ура!» всех присутствующих покрыло произносившего пожелание, и под громом его как бы очувствовался светлейший. Он обвёл глазами вокруг себя, словно не понимая, что делается. Взгляд его остановился на кавалере, чокающемся с императрицею.
Мгновение — и этот отважный чокальщик подлетел к герцогу голштинскому, и тут-то Меньшиков понял, что Сапега, названый его брат, явно, должно быть, идёт против него, присваивая себе его роль. Он не утерпел. Встал, подошёл к нему и спросил, меряя глазами дерзновенного:
— Кто тебе, чужеземцу, дал право за нас пускаться выражать пожелание?..