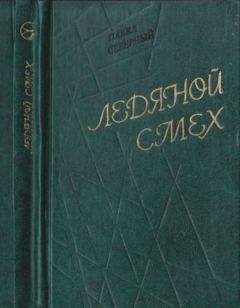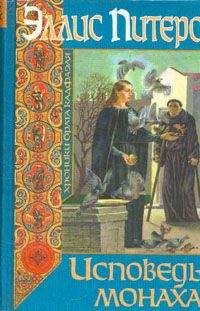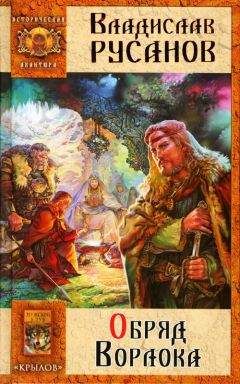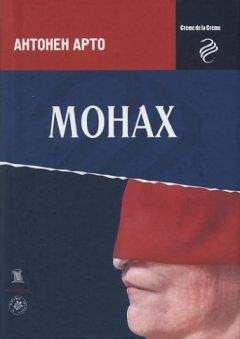Павел Северный - Ледяной смех
К счастью для Киры Николаевны и епископа Виктора, никто не знал, что для частого общения у них была особая, только им известная тайна. Тайна родилась тридцать восемь лет назад в блистательном Петербурге, когда в одну из белых ночей произошла их встреча на великосветском балу. Вскоре они полюбили друг друга. Для Киры Румянцевой первая любовь была таинственным откровением. Молодых людей захватило обоюдно сильное чувство. Они были одинаковы по сословию, но не одинаковы по знатности и богатству. Он, Кондратий Уваров, молодой архитектор, сын преуспевающего в столице адвоката. Она, Кира Румянцева, предки которой веками умножали славу и могущество империи.
Роман скоро стал достоянием общества, весть о нем дошла до слуха отца Киры. Он посчитал Уварова недостойным своей дочери и поспешно выдал ее замуж за губернатора.
Уваров тяжело пережил разлуку с любимой и через год постригся в монашество, в одном из отдаленных монастырей русского Севера. Они не виделись, хотя каждый бережно хранил в памяти мечту о несбывшемся счастье.
Кира Николаевна, переживая несчастья своих браков, в заботах о детях старалась не думать о дорогом человеке.
Только через тридцать восемь лет у пасхальной заутрени нынешнего года в омском соборе Кира Николаевна, окаменев, в одном из служивших архиереев узнала любимого Кондратия Уварова и потеряла в храме сознание.
Они встретились, разъединенные монашеским обетом. Кондратий Уваров, приняв постриг, был мертв, но в его облике жил епископ Виктор. Он бывал у нее во флигеле и часами играл для нее на рояле, и оба думали по-своему о прошлом. При встречах они говорили о чем угодно, но ни единым словом не посмели обмолвиться, что любили друг друга, хотя помнили об этой молодой, торжественной, человеческой любви.
4С полудня наплыв густых туч как-то торопливо убрал с Омска позолоту сентябрьского солнца. Накрапывал дождь, по-осеннему тихий, бесшумный.
У Киры Николаевны в этот день обедали епископ Виктор и княжна Ирина Певцова. Епископ высок, худощав. На нем ряса из синего грубого сукна. Густые седые волосы ложатся на плечи. Кустистые брови нависают над глазами. Седая бородка тщательно подстрижена. На груди епископа старинная панагия, сработанная в шестнадцатом веке умелыми руками новгородского мастера. Она из серебра, но позолочена. Ее лицевая створка — плоская чаша из яшмовидного халцедона, а поверх нее накладное золотое Распятие.
Разговор за обедом шел больше о пустяках. Говорили про наступившую осеннюю пору. Не забыли и о грядущей зиме. Никто из них понятия не имел о сибирской стуже, но по рассказам сибиряков, она уже пугала своей суровостью.
Певцова частая гостья Блаженовой. От нее она узнает о всех политических интригах, а также о тех из соотечественниках, кто и по каким причинам обивает пороги иностранных миссий.
Настроение Ирины сегодня удивляло Киру Николаевну. Княжна была молчалива. Пить кофе перешли в маленькую комнатку с одним узким окном, прозванную хозяйкой «тайницкой». Ее бревенчатые стены под цвет устоявшегося горчичного меда. Полумрак комнатки разгоняют огоньки лампадок. Горят они перед иконами в переднем углу, а также перед портретом последней императрицы в траурной бархатной раме.
Обстановки мало. Круглый столик. Два мягких кресла, обитых синим плюшем. У стен две горки из сундучков, окованных медью. В них привезенные из России летописи рода Румянцевых с лет Василия Темного, а также более поздние документы о делах рода «особо полезных» для бывшей Российской империи.
Епископ Виктор, отказавшись от кофе, попросил разрешения потосковать с музыкой. Скоро из гостиной мелодии Моцарта и Шопена прогнали тишину флигеля.
Горничная принесла на подносе серебряный кофейник, сахарницу и две синие чашечки. Поставив поднос на столик, спросила:
— Поди еще что?
— С собачками погуляй, но только во дворе. Меня дома нет, Глаша.
— Для всех, барыня?
— Для всех.
— А ежели письмо?
— Возьмешь.
— Поняла.
Горничная ушла, не закрыв за собой дверь.
— Умная деваха. И трогательно заботливая. Обязательно увезу с собой.
— Куда собрались, — настороженно спросила Певцова.
— Если, конечно, придется уезжать. За обедом все отмалчивалась. Может, скажешь, красавица, отчего у тебя панихидное настроение?
— От невозможности добиться желанного. Впрочем, ерунда.
— Ерунда ерунде рознь. От той, которая тебя донимает, иной раз женский пол в петлю лезет. Мне-то ведь можно про любую ерунду сказать.
— Только не сейчас, Кира Николаевна.
— Подожду! Но все же интересно.
Отпив несколько глотков кофе, Блаженова спросила:
— Анну Васильевну видела?
— Да. Она все время около адмирала. Он в мрачном настроении.
— Потому что знает.
— Что знает?
— Все, чего мы с тобой не знаем, но, может быть, своим чутьем кое о чем догадываемся. Одинок он в омской волчьей стае.
— Кто волки?
— Не прикидывайся дурочкой.
— Поняла. Генералы, министры, политики и разноязыкие иностранцы.
— Те просто погань со способностями на любые махинации по приказанию своих господ. И под иностранными мундирами водятся темные душонки, родственные нашим, которые возле них трутся. У меня любые иностранцы не в чести. Нагляделась на них возле романовского трона. Неужели сегодня ты ко мне пустая пришла?
— Нет, не пустая, но только не в себе, как говаривала, бывало, нянька. Даже очень не пустая. У Жанена позавчера был генерал Пепеляев.
— Об этом знаю. А вот хотелось бы знать, зачем Анатолий Николаевич побывал у Жанена, отлучившись с фронта?
— И об этом скажу.
Певцова налила себе в чашечку кофе, смотря на Блаженову с улыбкой, подпевая доносившимся мелодиям.
— Сказывай. Если считаешь узнанное дельным?
— В наши дни любая выдумка может стать правдой.
— Тоже верно. Так зачем же бравый сибирячок-генерал понадобился генералу французскому?
— Жанен интересовался, как бы Пепеляев отнесся, если к охране русского золота будут допущены иностранные войска.
Удивленная Блаженова поставила чашечку на блюдце и, покачав сокрушенно головой, спросила:
— Что же ответил сей истинный патриот Сибири?
— Кажется, был удивлен. Но все же обещал эту возможность обдумать. И был действительно удивлен, когда Жанен попросил его думать без ведома адмирала.
— Так. — Блаженова, задумавшись, барабанила пальцами по столику.
— Новость, девушка, тревожная.
— Адмирал тоже знает о визите Пепеляева.
— Успела сказать Тимиревой?
— Сегодня утром. Видела мельком, передала ей записку.
— И о написанном сказывай.
— Терявшийся любимый кот вчера нашелся.
Блаженова довольно рассмеялась.
— Кого под котом законспирировала?
— Пепеляева. Мы его давно так называем.
— А ты действительно не без способностей.
— Стараюсь. Россия мне тоже дорога, хотя я и титулованная. Без русской земли не будет мне жизни. Вот в чем главный ужас моей жизни. Страх остаться без России.
Певцова встала. Прислонилась к сундучной горке и, глядя на портрет императрицы Александры Федоровны, освещенный желтым пятном лампады, резко сказала:
— Какие у покойницы волевые глаза.
— Только не дозволил господь ее воле спасти Россию. Подумать только: из-за стечения неблагоприятных обстоятельств миллионы подобных нам стали России совсем ненужными.
— Что же могла сделать императрица?
— Спасти Россию, не допустив революции. Все погубила внезапная болезнь наследника Алексея. Материнский страх за его жизнь все заслонил в царицыном разуме. Не заставила мужа отречься от престола и взять империю в свои руки.
— Да разве могла пойти на это, любя мужа?
— Могла! Повторяю, не победила в себе материнский страх. Вот и горит перед ее портретом лампадка у Блаженовой, которой императрица многое доверяла. А если бы выполнила замысел, то не кончилась бы династия Романовых. Впрочем, о чем говорю. Империя кончилась, и стали мы чужими своему народу. И нечем нам ему доказать, что мы вовсе не чужие. У простого народа жгучая ненависть к нам за все прошлое, сотворенное нашими предками. У нас к нему ненависть теперь за то, что лишил нас привычного. Тяжело, княжна, жить с такими мыслями. Они меня уже с бессонницей сдружили. Все чаще вместо чая пью валериановую настойку.
В стекла окна настойчиво скреблись капельки дождя. Певцова прислушалась.
— Дождь разошелся и, видимо, надолго. Люблю в ненастье вспоминать детство. До смерти мамы оно было у меня солнечным. Кира Николаевна, я все же скажу нам про свою ерунду, портящую мне настроение.
— Спасибо.
Но прежде чем сказать, Певцова прошлась по комнатке, склонив голову, и на ходу произнесла:
— Я полюбила.
— А не увлеклась?