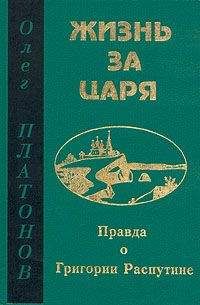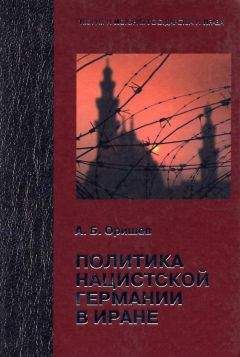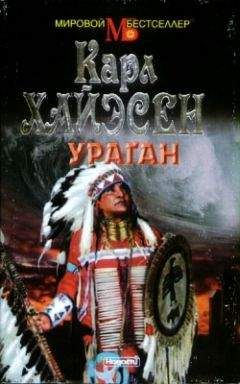Теодор Парницкий - Аэций, последний римлянин
И вновь нужно большое усилие, чтобы задушить распирающую все ее существо и стремящуюся вырваться наружу радость и гордость. Четыре года борьбы!.. Да, да, через девять дней, как раз в сентябрьские ноны, будет ровно четыре года, с тех пор как могущественный Флавий Бонифаций — наместник Африки и начальник дворцовой гвардии, любимец и друг Августы Плацидии — с первого взгляда влюбился в насчитывающую семнадцать весен последнюю наследницу рода Пелагиев. Разумеется, обширные и богатые владения между Гиппоном, Диаритом и Тамугади, которые должны были достаться в приданое молоденькой Пелагии, сыграли не последнюю роль в решении прославленного комеса, а все-таки прежде всего великая любовь, которой он к ней воспылал, заставила его просить ее руки. Род Пелагиев с охотой согласился породниться с другом и любимцем Августы Плацидии, но все же поставили условие, что их дитя, сочетаясь браком с исповедующим никейский символ веры, не будет принуждаемо к смене вероисповедания. И набожный Бонифаций согласился. Это была первая ее победа.
А другие?.. Другие она одержала не только над мужем, но и над епископом Африки… Когда она почувствовала себя матерью, Бонифаций потребовал, чтобы его ребенок, как только появится на свет, был окрещен и воспитан в вере, которую он исповедует. Пелагия ответила: «Нет». Началась борьба. Родилась девочка. Епископ Африки засыпал прославленного наместника письмами и устными строгими напоминаниями и дружескими советами. Пелагия отвечала: «Нет». И девочка была окрещена арианским священником.
— Ты меня поймешь?.. Ты меня простишь? — с грустью и тревогой в голосе шептал Бонифаций, глядя в окаменелое лицо епископа Африки. — Не справился… не смог… Пусть тебе Христос всезнающий, в лоне которого ты уже покоишься, сам скажет, мог ли я сделать иначе?..
И через минуту:
— Разве ты не учил нас словами апостола и своими собственными, что Христос — это бог любви и вся его вера и церковь только на любви и зиждутся?!. На любви, а не на насилии… Как же я мог насилием склонить ее, чтобы она почитала нашего Христа, нашу веру?.. Ты, который теперь знаешь все, скажи… скажи сам, разве угодно было бы отцу нашему, иже на небесех, уловление для него душ устрашением, насилием, мужской властью?! Я солдат, мудрейший отец, — не священнослужитель: всех путей мудрости божьей не уразумею, не проникну, но верю, что нимало не почту и не порадую господа нашего, если сумею принудить чьи-то стопы следовать в ту, а не в другую церковь, а сердца не переделаю… И поэтому… только поэтому…
Он вздрогнул. Как только он произнес «только поэтому», оживилось вдруг неподвижное, мертвое лицо, и, хотя не раскрылись мудрейшие глаза, хотя не сказали ему ничего в ответ толстые африканские губы, даже после смерти еще по-молодому мясистые и почти пурпурные, все равно Бонифаций отчетливо увидел тонкую, какую-то многозначительную и, скорее всего, издевательскую улыбку в уголках губ епископа Африки, и вместо того, чтобы побледнеть от испуга, он залился горячим румянцем.
— Да… да… я знаю… знаю, что ты хочешь сказать, — начал он шептать быстро, лихорадочно, страшно растерянный и пристыженный. — Ты издеваешься надо мной и смеешься над моими словами, потому что думаешь: «Правду ты сказал, Бонифаций: любовь тобой правит и дела твои определяет, но не Христова, а суетная, земная, людская любовь». И еще думаешь: «Бонифаций — это лист осенний, господней рукой кинутый на распутье: земной голос сердца, как вихрь, подхватит его без сопротивления и понесет, куда захочет». Правду сказал ты, святой, мудрейший отец, только кто, кто лучше тебя знает, что суть сердечные бури и сколько мощи и святости надо, чтобы с ними бороться?! А вот этой мощи и святости не даровал господь бог наш солдату, которого ты как-то раз изволил назвать своим другом и сыном…
Епископ Антонин снова пошевелил локтями, и тень, лежавшая на губах покойного, придавая им выражение издевательской усмешки, переместилась на шею и грудь. Перед Бонифацием снова был недвижный облик, серьезный, спокойный… Но мысль его все еще судорожно цеплялась за упоминание о сердечных бурях и теперь, призвав на помощь память, бродила уже по всем книгам «Вероисповеданий», отыскивая все больше сходства между собой и тем, кому господь не отказал в милости, даровав святость и мощь…
— Как это правдиво, что он писал потом о милости… Воистину, ничего бы я так не хотел, как дождаться той минуты, когда я почувствую, что на меня нисходит милость… милость святого господнего покоя…
Доселе этой милости он никогда не изведал. Вся его жизнь — вопреки тому, что было начертано на красивом, благородном лице, — была сплошной полосой тревог и терзаний. Действительно, он был подобен осеннему листу, кружимому страшной бурей вечно неудовлетворенного сердца. Как тяготила его борьба с женой из-за веры, а потом из-за крещения ребенка! Он не солгал перед собой и перед духом епископа Африки, когда говорил, что верит, что нельзя принуждением уловлять души для Христа, но одновременно чувствовал, что только любовь к Пелагии руководит его поступками, в глубине же души нередко считал себя достойным адского огня за нерадивость и лень в служении господу… Сколько раз бывало по утрам, с обожанием целуя ноги Пелагии, клялся ей, что сделает с ребенком, как она пожелает, — а вечером, возвращаясь из епископского дома, решал навсегда расстаться с женой-еретичкой. За три дня до смерти святого епископа он сказал ей это прямо в глаза! А разве после сражения с Маворцием, Сенекой и Галлионом не велел он своим солдатам жестоко истязать их, потом же, когда увидел растерзанные останки своих противников, разразился рыданиями, три дня не ел и не спал и наконец решил уйти от мира и стать отшельником?! И не стал им! А его отношение к Августе Плацидии? К вандалам? К народам африканских провинций?.. Он уже больше не может… нет сил… Поистине, сверх человеческих сил измучен он бурями вечно беспокойного сердца… Неужели никогда не снизойдет на него святой покой?.. С восхищением и одновременно с какой-то грустью и завистью жадно всматривался он в невыразимый покой, исходящий от лица умершего старца: вот и тут достиг он наконец счастья покоя, искусный воитель, неутомимый в борениях с бурями сердца… столькими вихрями терзаемый, несгибаемый великий дух, искатель путей божьих, Августин… А когда же я?..
— Славный муж… Вандалы…
В мгновение ока срывается Бонифаций с колен! Еще один торопливый прощальный взгляд на мертвое лицо Августина — и вот он уже идет быстрым, упругим шагом к низкой двери. Ни о чем не спрашивает — некогда. Он и без всяких расспросов знает, что произошло что-то действительно важное, если, не доверяя никому из своих подчиненных, комес Сигизвульт, его заместитель, лично, покинув стены города, идет в дом Августина — он, истый арианин, приверженец и могущественный поборник епископа Максимина! За низкой дверью как будто уже начинался ад: мрачная темнота, невыносимый шорох трущихся друг о друга в мучительной тревоге и отчаянье десятков тесно сдавленных тел, горестные возгласы, стенания, рыдания, взвизгивания — гиппонцы любили и почитали своего епископа, но еще больше боятся они вандалов: от этого такой безумный взлет горя и отчаянья. Даже в комнату, где покоится мертвый, проникает отчаянье и безумная тревога живых, жаждущих жить: епископ Северная отрывает от ложа голову и с беспокойством смотрит вокруг, Кводвультдей поднимается с колен и спешит за Бонифацием, почтенный пастырь Буллы Регия поднимает молящий взгляд на гота Сигизвульта. Один Поссидий, казалось, ни о чем не знает, ничего не слышит, а высокий черный Антонин вновь резко вскидывает острые крылья локтей и говорит негромко, но отчетливо, мгновенно унимая тревожную сумятицу:
— Утишьтесь, здесь покоится слуга божий Августин. Ты же — слуга императорский, ступай и сделай так, чтобы еретики не нарушали покоя и святости сна отца нашего…
И вновь погружается в тихую молитву. Кровь ударяет Бонифацию в лицо: никто не сомневается, что слова епископа относятся к Сигизвульту, каждый, однако, видел, что взгляд Антонина, когда он говорил, покоился на Пелагии, которая на какое-то время появилась на пороге и остановилась в полосе света. Еще до этого ее все узнали и передавали из уст в уста приглушенным шепотом: «Пелагия… еретичка». Но никто не знал, то ли следует ее осудить за то, что осмелилась сюда прийти, то ли, наоборот, радоваться, что пожелала поклониться епископу Августину; но после слов Антонина сдавленное шипение перешло в громкий ропот. И вновь почувствовала на себе Пелагия жгучий огонь ненавидящих взглядов и мучительную тяжесть каменьями швыряемых проклятий. И она, обведя их взором, платила им тем же — уводимая, — нет, увлекаемая мужем к перистилю. Они были сильнее, их было больше: это прибежище величия, покоя и святости смерти неожиданно сделалось каким-то чисто земным чистилищем, которое двойным пламенем ненависти и презрения клеймило ересь, выжигая клеймо на челе идущей вдоль двойного шпалера ортодоксов женщины.