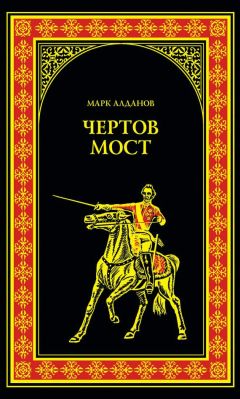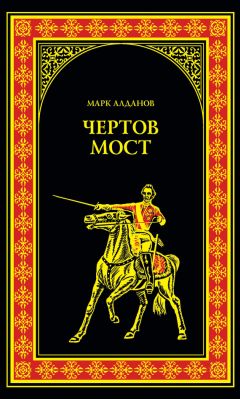Тулепберген Каипбергенов - Сказание о Маман-бие
Были в толпе сироты — Коротышка Бектемир, маленькая Алмагуль и Аманлык. Бектемир убежал без оглядки, Алмагуль уткнулась лицом в живот брату, Аманлык смотрел неотрывно, округлив свои бархатные нежные глаза, как будто мог удержать взглядом вороного гунана.
Маман огляделся ожесточенно, словно говоря: ну, кто следующий? Глаза и головы опускались ему в ответ — и ябинцев, и кунградцев. Один Байкошкар-бий еще не насытился.
Впереди толпы стоял Избасар-богатырь с измазанным кровью по-детски пухлощеким лицом. Байкошкар-бий смотрел на него в упор. Известно было всем, кроме Мамана, что Избасар, взяв с собой семерых, напал ночью на спящих кунградцев, увел скот, а затем, не дрогнув, отрезал арыки, несущие воду кунградцам, засыпав их у истоков землей и укрепив засыпку камнями.
Опасно было связываться с Избасаром-богатырем, — бог знает чем это могло обернуться. И все же Байкошкар-бий ткнул в его сторону нагайкой:
— Пускай он сам скажет, что натворил со своими…
— Скажи… — проговорил Маман глухо. Избасар лишь развел руками, улыбаясь, как дитя.
— Слезай с коня, Избасар-богатырь, — скомандовал Маман.
— Сле-езем, — отозвался Избасар добродушно, как будто его приглашали за дастархан. И снес свое могучее тело из седла наземь с легкостью птичьей.
Следом за ним слезли с коней еще семеро… Как на подбор те самые! Семеро из десятерых, которые ездили с Маманом встречать Митрия-туре. Цвет и краса ябин-ских джигитов. Но Маман не колебался:
— Связать их всех. Разденьте и бросьте комарам на съедение.
И это его приказанье было тут же исполнено.
Мамап повернулся к Байкошкар-бию. Казалось, сию минуту он скажет: а теперь тебя, милый, к хвосту! О господи, что бы тогда было! Ябинцы полегли бы все, но уж эту шельму с кровоточащим носом привязали бы к хвосту его коня. Однако Маман сказал холодно-угрюмо:
— Теперь ваша душа утешилась, почтеннейший? Байкошкар-бий поклонился манерно, словно бы
опять передразнивая кого-то, так, что у стоявших поблизости подвело животы от отвращенья. И бойким голосом закричал своим кунградцам:
— Маману — да будет благодарность аллаха! Поехали…
Кунградские конники отделились от толпы и стали собирать коров и овец в кучу. Им не препятствовали. Это был скот, угнанный Избасаром. Лишь Мурат-шейх возвысил голос:
— Эй, псы кунграда… подберите своего раненого пса…
Кунградцы молча подняли и унесли одного из двоих лежащих под дубом. Гоня перед собой скот, ушли.
Пулат-есаул повел в аул Избасар-богатыря и семерых джигитов, связанных по рукам, раздетых догола. За ними потянулись конные ябинцы и пешие, женщины, дети, старики. Никто не смотрел на Мамана. Быстро около него опустело. Уехал и Мурат-шейх, не вымолвив ни слова. Маман остался один на изрытом копытами лугу.
Немо глядел он в землю, у ног коня. И видел тело Кривого Аллаяра, вертящееся, как перекати-поле. Взглядывал в небо — и видел выпученный единственный глаз Аллаяра, веселый и гневный, без тени страха. В горле у Мамана булькало. Голова кружилась.
Потом он увидел перед мордой коня чернобородого человека с пристальными и добрыми глазами, двумя глазами… Они то расползались к ушам, то сближались и сливались в одно око — во все лицо, око Алланра. Маман знал этого человека и не узнавал.
— Ты кто? — выдохнул Маман всей грудью.
— Я Сейдулла, сынок. («Кто такой Сейдулла?») Ты еще молод, сынок. Живи подольше. Но постарайся… с благословеньем людским, а не проклятьем…
Маману хотелось сказать: «Я уже старый, отец, старше тебя». Но тот исчез.
Потом вдруг опять возник у самого лица Мамана и спросил:
— Глаза у тебя полны слез? Или полны крови? Почему ты меня не видишь?
И опять Мамап не успел ему ответить. Пропал Сейдулла.
Конь повернул голову и потянулся губами к Маману, чтобы сказать, кто такой Сейдулла… Маман встряхнулся и вспомнил: это же аткосшы Мурат-шейха, силач и простак, у которого — поучиться простоте. Где он? Не стало и его.
Маман спешился, пошел в степь, ведя коня в поводу. Тела Кали он не нашел, его, конечно, убрали родичи. А тело Аллаяра нашел, исковерканное, неестественно изогнутое, со стертым до кости лицом. Около него стоял вороной гунан, сидели рядком сироты — Аманлык, маленькая Алмагуль, Бектемир и все остальные. Увидев Мамана, дети разбежались; ушел быстрым шагом, отворачиваясь, Аманлык. Следом припустился гунан.
Ноги у Мамана подломились. Он повалился ничком на тело Аллаяра, теперь уже не Кривого, Убитого Аллаяра. Тело было холодно и твердо, но сильно пахло потом, точно живое. Изо всех сил Маман обнял и прижал к себе Убитого Аллаяра. Но тот оттолкнул его. Ожил Убитый Аллаяр… Вскочил и прикрыл собой Мамана, крича не своим голосом, заполошно размахивая руками, а Маман почувствовал за своей спиной ребристую твердь дуба, а на своих руках веревки. Сироты, сироты! Это Маман, наш Маман! Так кричал Убитый Аллаяр. Визжа и плача, побежали дети, дети, дети и облепили Мамана, как мухи набитую холку коня.
Рухнул дуб. Он долго, медленно рушился на Мамана, как в мучительном сне, а он ждал, холодея спиной и затылком, когда дуб его раздавит. Потом рухнула на землю ночь, мгновенно, едва закатилось солнце.
Из своего мазара вышел Оразан-батыр, кивнул Маману и стал деловито привязывать его к хвосту коня. А дальше сорвался и полетел Маман кувырком не то в небо, не то в преисподнюю, полетел в никуда, в то длинное счастливое забытье, полное живых, правдивых, вовсе не страшных, а милых видений, которые именуют кошмарами лишь чересчур трезвые, чересчур здравые рассудки.
Он смутно слышал над собой голоса. И кажется, узнал голос Мурат-шейха:
— Не троньте его. Хуже будет… Его душит его же воля.
Потом — другие голоса. Их Маман не узнал:
— Дать ему камешком умненько по шее, пока не поздно, никто и не догадается, отчего он кончился.
— Я догадаюсь, почтенный Али-бий. Дайте сперва мне камешком по шее.
— Кто тут? Ты кто, бес? — Я Сейдулла, Сейдулла…
* * *Невеселые, головы повесив, возвращались кунград-цы домой. Они выручили свой скот и впервые на памяти людей уходили из драки, из набега, не опасаясь погони. После всего, что было, не ждали кунградцы мести. Куда там! Нынешний день ябинцам не до жиру, им бы — совладать со своим Маманом, сыном батыра. Всякое бывало, но такого, что он творил, никто не упомнит. Еще полны уши его бешеным хрипом.
И все же кунградцы возвращались словно бы обманутые. Лишь Байкошкар-бий бодрился и передразнивал всех и вся; он трубил победу. Другие держались смирней, понимая, что это не конец, это начало. Хребтами своими чувствовали тяжкую руку, свинцом налитую, — руку неистового Мамана.
Впереди, из-за холма, выплыло облако пыли. Подскакал Рыскул-бий со свитой аксакалов. Рыскул-бий был вне себя. Услышав, что было у старого дуба, он стал выкрикивать полную бессмыслицу:
Так я и знал… Не верю своим ушам! Так я и знал… Неужто правда? Двух своих джигитов — к хвосту коней?
— Правда, хан кунграда, правда.
— Спросите у этого… кто-нибудь… еще раз… Я послушаю.
Спросили, как он велел, и Байкошкар-бий еще бойчей, в лицах изобразил, как было дело. Ломался он так, что всех насмешил, кроме Рыскул-бия.
— Джигиты, — сказал Рыскул-бий с внезапным пугающим спокойствием, — этот юнец, ваш ровесник, родился в рубашке. Он в ваши годы понял то, что мы не понимаем в свои, в возрасте пророка… Слава богу, родился человек истины и справедливости. На ваших глазах родился! Он прав: нет здесь врагов… все опустите руки, все…
Затем Рыскул-бий сказал, показывая на Байкошкар-бия, и голос старого беркута был, как прежде, непререкаемо властен:
— Попала мне в глаз соринка, я ее удаляю. Свяжите вот этого необузданного и бросьте поперек его коня. Живей!
Сказал и сам поразился, как торопливо, безропотно джигиты исполнили его приказ. Байкошкар-бий не противился, слова не обронил, ушибленный нежданным срамом. Пожалуй, дурре Абулхаир-хана, даже дурре, были бы менее срамны.
Сунулся было к Рыскул-бию Есенгельды, подбоче-нясь, ломаясь, как его бойкий родитель:
— А не стал ли скудеть ваш мозговой кошель, бий-отец? Выживаете…
И не договорил, едва увернулся от удара нагайкой. Большего, впрочем, этот желторотый не стоил. На боль шее он и не отважился. Заступился за отца — на словах дерзко, и ладно. Какой смысл попадаться под горячую руку? Никто из биев не встал на сторону Байкошкар-бия. Не любят его… Рады, что хан кунграда в ударе!
Есенгельды все же надеялся, что на виду у аула Байкошкар-бий будет посажен на коня. Как-никак он правая рука головы рода. Ничуть не бывало! Байкошкар-бий проехал, лежа на животе поперек седла, дрыгая затекшими ногами, через все попутные аулы, и соседские и свои. Пялились на него всласть и хозяева и слуги, и стар, и млад. Детишки бежали следом, разглядывая, как он пыхтит, кашляет и плюется, удерживая позывы тошноты.