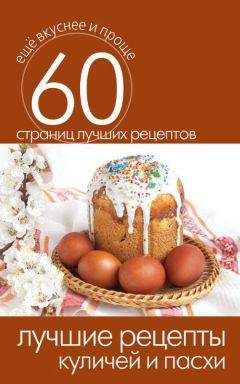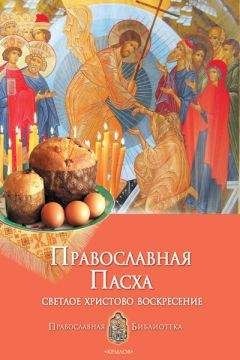Валерий Шамшурин - Купно за едино!
И другая, более заразительная пагуба одолела Маскевича: он стал корыстолюбцем. Лишь безумы, заряжая мушкеты жемчугом, палили из них для забавы в белый свет, — разумники же туго набивали кошели. Такой кошель, где, кроме жемчуга, были золото и самоцветы, Маскевич всегда носил с собой. Сыскал он возле зелейных погребов и укромный тайничок, куда складывал разную добычу: меха, парчу, серебряный лом. Да приключилось неладное. Ротмистр Рудницкий, присмотревший после пожара в Китай-городе для нового жилья небрежно вычищенный пороховой погреб, полез туда со свечой и взлетел на воздух. Огонь заплясал на обломках, подбираясь к заветному хранилищу Маскевича. Ладно, челядь спасла, что успела. Однако сбылось и старое поверье: на что глянет волк, того уже не считай своим, — многое было расхищено. А с кражами сам Гонсевский не мог покончить: в обычай вошли.
К приходу Ходкевича в поредевших полках царил полный разброд. Утомленное от долгого осадного сидения войско выходило из повиновения. Шляхте же опостылело справлять вымышленные победы да и поживиться уже было нечем. Кончились винные запасы, исчезли отборные яства, а мешок ржи подорожал настолько, что его по цене ставили выше мешка завозимого из дальних стран перцу. Вслед за неприхотливыми жолнерами высокородное панство изведало вкус тяжелого прогорклого хлеба с колючей мякиной. Да и заморенные лошади еле держались на ногах, и от вящей нужды по третьему разу была кошена скудная трава на кремлевских луговинках.
Подступали голодные дни, и ропот усиливался. Вольная шляхта вспомнила о том, что на исходе договорные сроки ее службы королю. Задумана была конфедерация, чтобы на ней избрать гонцов в Польшу. Все рвались домой. И Маскевич, давно истомленный ожиданием, еще усерднее стал печься о сохранности своих ценностей, для надежности заперев их в ларец, который упрятал за постелью.
Вместе с избранным рыцарством он выехал на долгожданную встречу с гетманом. Ехали плотным строем, зорко поглядывая по сторонам. Но угрозы не было: казакам было не до них, они укрепляли свой лагерь.
Сухой ледок замерзших за ночь луж с тонким звоном похрустывал под копытами, и тоска голых осенних далей передавалась всадникам.
Маскевича не оставляло беспокойство: быть ему нищим, если пропадет ларец. Однако нельзя же его везти с собой — риск куда больший. Утешая себя, он похлопывал по шее зябко вздрагивающего коня и нашептывал молитву. Поручик Войтковский присмотрелся к приятелю.
— Цо такего? Ян Кохановски? — спросил он не без издевки, размыслив, что начитанному Маскевичу при виде осенних красот пришла охота вспомнить вирши знаменитого польского поэта.
— Яки дьябел, не! — огрызнулся Маскевич.
Войтковский громко захохотал. Грубая шутка, мигом облетев ряды, вызвала игривые улыбки и непристойные добавки. Однако охватившая всех подавленность не располагала к веселью, и оно быстро угасло.
Предчувствие не обмануло. Остановившийся в Красном селе Ходкевич принял рыцарство более чем прохладно. Он уже был наслышан о шатостях в Кремле и решил пресечь смуту железной рукой.
Порывы ветра скручивали перья на шлемах, рвали с плеч епанчи, студили лица, но шляхта оставалась в седлах, выслушивая отповедь военачальника. И чем больше он бранился, тем большим становилось возмущение. Обида переполняла шляхту: слишком уж резво натягивал вожжи гетман, не лопнули бы ремни.
И когда Ходкевич договорился до того, что назвал рыцарство жалким сбродом пропившихся ослушников, в которых такое же средоточие всяких зол, как в сосуде Пандоры, нашлись смельчаки и начали перечить. Один из молодых шляхтичей даже выскочил на застоявшемся скакуне из рядов. Но ледяной зловещий взгляд гетмана и высоко вскинутая над головой булава остановили дерзнувшего.
— Квос эго![25]
Ходкевич повелел шляхте возвращаться в Кремль и немедля привести осажденные полки в боевую готовность. Вместе с гетманским войском они по сигналу должны были напасть на ополченский лагерь.
Как побитые псы, мрачней ненастной ночи, оскорбленные рыцари повернули назад. Проклятьям и жалобам не было конца, словно сама злоба взялась засеивать ими всю обратную дорогу.
Благополучно добравшись до своей каморы, Маскевич сразу же кинулся к постели. Ларца на месте не было. В остервенении поручик пнул сброшенный с кровати тюфяк и вылетел из дверей. Перепуганный слуга вжался в стену.
— Кто тут был? — заорал Маскевич.
— Не вем, — дрожащими губами пролепетал слуга и вдруг вспомнил: — Яков Немец шукал пана.
— Яков Немец! По цо? — представил поручик смиренно слащавую с наглыми подобострастными глазками рожу пахолика, который прислуживал брату Даниилу. Никто иной не осмелился бы подобраться к постели. Пронюхал лайдак про ларец и выкрал.
Маскевич тут же отправился на розыски негодяя. Но того и след простыл. Брат сказал, что он перебежал к москалям. Пришлось утешиться раздобытой где-то Даниилом тошнотной бражкой.
5Дворянские и казацкие отряды были расставлены с тем умыслом, чтобы перекрыть все подступы к Москве. Однако сплошь кольцо не смыкалось. Непомерно велико пространство для охвата. Наспех возводимые крепостцы-острожки, что преграждали самые опасные пути, не могли длительно держать оборону. Рыхлая насыпь и хлипкий тын были дрянной защитой. И удержание острожков стоило немалой крови. Потому, уготавливая достойный отпор Ходкевичу, Заруцкий с Трубецким порешили стянуть все силы в одно место, к своим наиболее укрепленным казацким таборам возле Яузы. Атаманы не просчитались, Ходкевич и впрямь нацелился на таборы.
Резко и зычно взревели боевые рожки и нефири у Андроньева монастыря, мимо которою двинулось на приступ казацких укреплений гетманское войско. Смыкаясь с ним, взмахнули саблями подоспевшие из Кремля хоругви. Держались плотно, чтобы ударить сокрушительным тараном. Без надежных тылов и добрых припасов Ходкевичу не оставалось ничего иного, кроме как навалиться разом и сломить ополчение сходу. Невзирая на встречный огонь самопалов и пушек, латники отважно прихлынули к земляному валу и стали взбираться на него.
Но недаром ходила молва, что в рукопашной схватке пешие казаки превосходят конных. И казачество не посрамило себя. Войско гетмана застряло на валу.
В непрогляди порохового дыма только по суматошному лязгу железа и остервенелым воплям можно было угадать, какая упорная завязалась на валу сеча, какое там несусветное столпотворение. Подталкивая друг друга, ряд за рядом напирали на казаков проворные гайдуки, рослые алебардщики, спешенные удальцы-сапежинцы, но все словно перемалывались теснотой и давкой, бесследно пропадали в неразличимом скопище, что за клочковатой завесой грязного дыма металось поверх вала.
И когда поразвеялся дым, взору Ходкевича открылся весь крутой склон, усеянный грудами поверженных тел. Гетман понял, что рискует потерять войско. Бессмысленно было вводить в бой рыцарскую конницу, для которой нужно открытое поле, где она могла бы развернуться и показать себя. А лифляндские немцы-наемники, брошенные на поддержку польской пехоте, замешкались у самого вала, не решаясь рисковать головой. Других резервов у Ходкевича не оставалось. Продолжать битву — понапрасну истязать себя.
Творя молитву, гетман внезапно вспомнил образ святого Франциска, созданный несравненным Луисом де Моралисом, полотно которого ему привелось видеть в Испании. С безумным исступлением, со слезами на глазах Франциск обцеловывал фигурку распятого на кресте Езуса, которую благоговейно держал в пробитых железными шипами ладонях. Великое самоотвержение во славу господа! Но Ходкевич сурово отогнал от себя видение: нелепо укреплять дух скорбящим Франциском. Богу угодно иное: отступив, сберечь войско и нарастить его, дабы потом без всякой пощады грозным посполитым рушением наказать поганых схизматов. Расчет на то, что они изнурены долгой осадой, что без Ляпунова не смогут сплотиться, был роковой ошибкой. И ее нужно исправить немедленно. Ходкевич велел трубить отбой.
В тот самый миг и выметнулась на поле ретивая конница Заруцкого. Атаман чутко уловил перелом в сражении. Явно в насмешку над хваленым рыцарством он нахлобучил на голову дерзкую магерку, ту самую шапку с пером, что была любима Баторием, и алый его кунтуш, в цвет польского знамени, заполыхал впереди, как пламя. Еще перед боем, не зная, чем он завершится, Заруцкий рассудил: ничто не утвердит его власть над ополчением — лишь отчаянная лютая отвага, в чем ему не было равных. Он либо все обрящет, либо все утратит. Либо разгром и посрамление Ходкевича, либо героическая смерть. Никакая середка его не утешит — он любил пить до дна, а ходить по краю. И удача вновь явила милость.
Уже изготовившись к, отходу, гусарские хоругви вынуждены были принять вызов. И пока основные силы, подчиняясь строгой воле гетмана, продолжали стягиваться, их прикрытие ринулось на казаков. Заруцкий быстро смекнул что к чему. И вместо того, чтобы схватиться в лоб, увлекаемые им конники резко уклонились в сторону и в мгновенье ока оказались за спинами разлетевшихся гусар, отрезав их от остального войска. Ловушка вышла на славу.