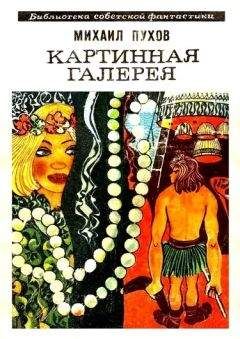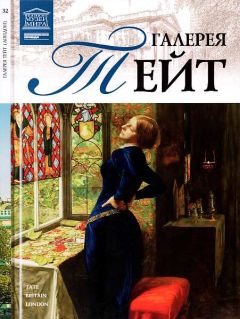Николай Равич - Две столицы
Храповицкий поднялся по маленькой внутренней лестнице дворца, держа в руках сафьяновую папку, — в ней был манифест об обстоятельствах войны с Турцией, и он нёс его на подпись. В маленькой приёмной, перед входом в кабинет Екатерины, он увидел зад почтенного Захара Константиновича Зотова, над которым в обе стороны крылышками торчали фалды камзола. Зотов подсматривал в замочную скважину. Потом покачал головою, выпрямился. Увидев Храповицкого, сказал шёпотом:
— Плачут-с…
Храповицкий осторожно постучал, из-за двери послышался голос Екатерины:
— Антрэ![59]
Он вошёл и удивился: императрица сидела как ни в чём не бывало, только рука её, державшая табакерку, немного дрожала.
— Есть что-нибудь от светлейшего? — спросила она своим обычным голосом.
— Вчера прибыл генерал Боур, однако без всякой почты. Находится в ожидании повелений вашего величества.
Екатерина передёрнула плечами, как бы от озноба, схватила лист белой бумаги, начала быстро писать. Храповицкий ждал. Императрица вдруг подняла голову:
— К паше Скутарийскому люди посланы через Венезию и Триест?..
— Посланы, ваше величество.
— А из Константинополя Ионес выехал?
— Находится в пути…
Екатерина улыбнулась, потом сказала полушутя, полусерьёзно:
— Добьётся, кажется, Абдул-Гамид того, что образуем мы новую Византийскую империю с великим князем Константином Павловичем во главе. Только не знаю, что мне делать со светлейшим — из меланхолии не выходит… У вас что-нибудь есть? — И, протянув Храповицкому лист бумаги, исписанной мелким почерком, прибавила: — Нате, отправьте с Боуром.
Храповицкий вынул из папки манифест, поклонился и с плавностью, необыкновенной для такого толстого человека, подал императрице.
Екатерина прочла.
— Хорошо написано, и ничего не добавишь. Кто писал?
— Канцлер граф Безбородко.
Императрица взяла гусиное перо из стойки, ласково взглянула на Храповицкого.
— Ах, хороши перья вашего очина… — И кивком головы отпустила его.
Храповицкий, пятясь, вышел и уже на лестнице прочёл первые строки адресованного Потёмкину письма:
«Мне кажется, что фельдмаршалу во время войны следует быть при войске, а не в столице. Я уже не говорю о том, что в нынешних страшных для России обстоятельствах самое опасное заключается в том, когда главнокомандующий не знает, что ему делать».
Толстяк приостановился, затаив дыхание. Зная характер Потёмкина, он представлял себе, какое впечатление произведёт это послание. Потом он вытащил из кармана платок, вытер им вспотевший лоб и прошептал с восхищением:
— Великое актёрское мастерство у ея величества…
В Москве манифест о войне с Турцией читали в церквах, объявляли с Лобного места, в Благородном собрании.
В помещичьих домах, похожих на усадьбы, в купеческих трактирах, где на двоих давали самовар, чайник с заваром и шесть полотенец — на три пота, и на завалинках перед домами, куда к вечеру вылезала вся «чёрная» Москва, только и разговора было что о войне.
— Конечно, — говорил дворянин, сидя в шлафроке и тёплых туфлях вечером у камина и попивая подогретое красное бордоское вино, — столь великое поношение, как арест собственного ея величества посла, перенесть невозможно. Следует воевать. Однако откуда же я возьму рекрутов? В первую турецкую войну я дал из подмосковной, в польскую — из орловского имения, а теперь разве взять из дворни?
И дворянин задумчиво смотрел на Прошку, подкладывавшего дрова в камин. «Нет, — думал он, — Прошка стар и привычки в доме знает, вот, пожалуй, Мишку, он помоложе…» И, отхлебнув из бокала, кричал:
— Эй, Прошка, позови-ка Мишку…
Вбегал Мишка — бойкий, щеголеватый молодец, в поддёвке, стриженный «под скобку».
«Нет, — думал барин, — и Мишку нельзя отдать — он Москву знает как свои пять пальцев, пошлёшь куда, в два счёта слетает и назад готов с ответом, его заменить некем».
— Иди, Мишка, назад в переднюю!
«Может, Прокофия, повара, отдать — мужик здоровый?» И, подумав, решал: «Нет, нельзя и Прокофия, его три года француз обучал, возьмёшь другого, так, пожалуй, дома и есть не захочешь… Нет, уж лучше напишу старосте в Орловское — пускай отберёт рекрутов там, из тех, что не внесли оброка в срок, авось и другие подтянутся. Так-то оно лучше будет…»
В Зарядье, в Охотном ряду — в трактирах — было полно народу. Пар из окон и дверей шёл, как из бани.
Купцы первой сотни и малые купчики, только что выбившиеся из приказчиков в люди, сидели за столами; кто держал на пяти пальцах вытянутой руки блюдце с горячим чаем и дул на него — глаза, выпученные от жары, на мокрой шее — полотенце, рот кренделем, кто закусывал водку пряником.
— Ишь ты, — говорил худой рябоватый купчик с козлиной бородкой приятелю из соседней лавки, — Иван-то Дмитриевич ничего — весел. Стало быть, оно того, война-то, выходит, на руку.
Сосед, багровый, огромный мужик с носом, красным, как бурак, гудел:
— Известное дело, Ивану Дмитриевичу что! У него хлеб скуплен. А нонешний год неурожай — возьмёт сколько захочет. Опять же кожа у него — на армию пойдёт. А у нас с тобой галантный товар — ситец. Его есть не будешь…
Иван Дмитриевич, купец первой гильдии, холёный, лысый старик с заплывшими глазками и бородой, похожей на белый венчик, говорил громко, на весь трактир:
— Перво-наперво матушка государыня о чём печётся? О вере православной. Как мы есть Третий Рим, должны мы освободить от басурман Царьград, сиречь Византийское царство. Посему и имя дано цесаревичу, — и купец поднял палец кверху и значительно приподнял брови: — Кон-стан-тин! А во-вторых, о чём матушка государыня печётся? О российской коммерции — дабы полуденные наши страны, сиречь Украина и Новороссия, хлеб и прочие товары свободно вывозить могли по Чёрному морю. На сие святое дело пожертвовать не жалко…
В это время к столу, стуча деревянной ногой, протиснулся солдат-инвалид — треуголка облезлая, зелёный кафтан в дырах, на груди две медали — «За Ларгу», «За Кагул», взмахнул треуголкой, поклонился:
— Угостите кавалера малой чаркой!..
Иван Дмитриевич поперхнулся, посмотрел на солдата, потом взял чашку чая, покрыл её блюдечком, на донышко положил кусочек сахару с ноготок мизинца, важно подал инвалиду:
— На, угощайся! Иди благословясь!..
Не то говорили на завалинках деревянных домишек, растянувшихся во все концы московских улиц, в переулках, где грязь и летом не высыхала, на огромных полотняных и ситцевых заводах, что стояли на Пресне, на Трёх горах.
Год был плохой. Рожь дошла до двадцати рублей за четверть. Да и рубли были не те, что несколько лет назад. Теперь за рубль ассигнациями давали шесть гривен серебром. Кто пришёл из деревни — отпросился на заработки у помещика, не знал как и быть. Оброк вырос в пять раз, деньги упали почти что вдвое, хлеб вздорожал в десять раз, а заработки остались те же. А иной мужичишка, прошлёпавший не одну сотню вёрст в развалившихся лаптях, чтобы добраться до Москвы на заработки, только бессильно вздыхал, глядя на заводские ворота и потряхивая выцветшими от солнца и покрытыми пылью кудрями:
— Эх, Емельян, рано ты сложил свою буйную голову на плахе, вот теперь бы…
Другие бросали всё, пробирались лесами на север, в Архангельские скиты, к раскольникам, в Поморье, в Олонецкий край, где никогда не было крепостного права и крестьяне жили вольными общинами, отделённые от царей и дворян-помещиков непроходимыми болотами и дремучими лесами.
Третьи говорили: чем здесь подыхать с голода да ждать, пока по голому заду отстегает тебя помещик в конюшне, подамся-ка я волонтёром в рекруты, попаду к Суворову или Румянцеву — выйду в люди, помру — двум смертям не бывать, одной не миновать.
Не прошло и нескольких дней после объявления войны, как хлеб стал исчезать. 1787 год был годом страшного неурожая в Центральной России. Но московские дворяне этого не чувствовали — им из ближних и дальних деревень, как и прежде, управляющие гнали обозы с хлебом, птицей, рыбой и мясом, отнимая последнее у крестьян. Не замечали его и купцы — у них не только был хлеб для себя, но и в предвидении повышения цен они своевременно закупили его на Юге и в Заволжье и припрятали про запас.
В Зарядье, на Варварке и Красной площади лавки закрывались одна за другой — и товара не было, и покупать некому. Зато на Кузнецком мосту и на Петровке во французских магазинах по-прежнему щеголихи и щёголи выбирали затейливые наряды, прибывавшие из Парижа. В «обжорном» ряду, что тянулся от Красной площади к Москве-реке, перестали продавать калачи и сайки. В кабаках и винных погребах, стоявших в Замоскворечье почти что у каждой церкви, торговали одним вином — редко где на верёвке висела высохшая вобла, покрывшаяся пылью. Сбитенщиков и пирожников, от которых раньше отбоя не было, теперь нельзя было сыскать и днём с огнём. Голод надвигался на древнюю столицу. По улицам, вперемежку с нищими, озлобленно гудел голодный народ, бесплодно толкаясь около пустых булочных.