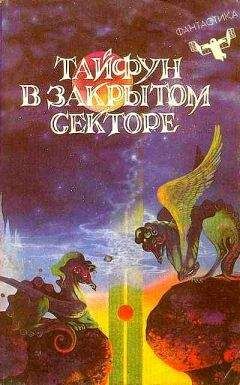Иван Полуянов - Одолень-трава
Поле белое, нижутся хлопья сырого снега, зловещей расселиной зияет грязный проселок.
* * *Озеро круглилось, стекленело — темное в заснеженных берегах. Покой залег на озере и в лесах; что напоминало о войне, так головни. Была изба рыбачья, явка была — головни чернеют. Одна печь уцелела. Из печи выскочила кошка на наши шаги. Кошка привязчива к родному дому.
— Прощай, Сережа.
У него свое задание, у меня свое, и нужно нам расстаться.
— Пожелай «ни пуха ни пера».
— А ты пошлешь к черту?
— Через плечо сплюну!
Я улыбаюсь через силу, Серега — весел, как всегда. Морщится курносый, обрызганный веснушками нос, на лоб свешивается густой рыжеватый чуб.
— Девчонка ты что надо…
В устах Сереги это высшая похвала. Он ошибается. Думает, что я понудила его снять часового — «одним каманом меньше, то воздух чище». Я не разубеждаю его.
— Го-гонг, клип-понг, — прокатилось по озеру, замерло в отдалении, как колокольный звон.
Заиленный приплесок в отпечатках разлатых, как кленовые листья, широких птичьих лап. Пушинка заплыла в заводь.
Лебеди на озере. Двое лебедей. Пара лебедей.
От своих, от стаи они отстали, да?
— Ко-гонг… кли-понг!
Кличи лебедей печальны в снежных берегах.
— Ну, будь, — говорит Серега. Порывисто наклоняется и целует мне руку.
Ничего такого: у вологодских парней, кто из вагонных мастерских, в обычае целовать руки девчонкам что надо.
— Я тебя уважаю…
— Будь, Сережа!
* * *В документах комар носу не подточит. Пропуск, справки. На Катю Огаркову. Будто бы одежду на съестное меняю. В погосте Озерные есть адрес. К фельдшерице Тамаре Митрофановне. По документам она мне тетя. В глаза я ее не видывала, может, она такая же Тамара Митрофановна, как я Катя?
Главное, явка на озере провалена: головни на месте избы говорят сами за себя. Поэтому в Озерных придется действовать вслепую…
Озерные, Озерные — избы серые на покатом холме, березы древние, поди, с екатерининской поры, когда дан был царицей строгий указ дороги империи обсаживать деревьями!
Мертвой тишиной встречали Озерные. По задворкам бродил заморенный скот.
Что это значит? Неужто некому хоть коров загнать по хлевам?
Пуст посад. Кресты. Смолой, дегтем нарисованы кресты на воротах, на дверях.
Ударил колокол в часовне. С кладбищенских деревьев тучей снялось воронье.
Въезжал в село обоз. На подводах гробы или без гробов, в холщовых саванах покойники: кто головой вперед, кто ногами, навалены как попало.
Осенью восемнадцатого года на северные деревни через границы и фронты обрушилась эпидемия гриппа-испанки. В земских больницах и фельдшерских пунктах, кое-где рассеянных по волостям, не хватало ни врачей, ни медикаментов. Люди вымирали семьями, целыми деревнями, болезнь не щадила ни взрослых, ни детей.
Посад напусто-пуст. Кресты и кресты. Выведенные смолой кресты, подобные тем, какими в глухую старину суеверие открещивалось от чумной пагубы, моровой язвы.
— Кар-карр! — каркало воронье над крышами. Жутко делалось от шелеста лоснящихся черных крыльев и карканья, от заунывных, медленных ударов колокола.
Пластались рваные тучи, сырой снежок пахнул светло и лучисто, медный колокол часовни бил с оттяжкой, натужно, и летало, кричало воронье. На ветру хлопали, скрипя ржавыми петлями, двери пустых изб, будто ходил кто-то по посаду, искал и не мог найти то, что искал в светлом сиянии снега, в безлюдье улиц…
Наметила я себе дом позажиточней: в самом деле, не по халупам же хлеб менять на барахлишко из моей котомки? Переступила порог избы — и отшатнулась. Печь топится, а чад из устья клубами плывет в избу.
На полатях кашляла старуха.
— Кого бог принес? — едва я разобрала шепоток, прерываемый кашлем.
— Меняю, баушка, на хлеб. Ниток-иголок не надо ли?
Старуха слезла с полатей. На руках и ногах, словно браслеты, кольцами веревка из конского волоса. Голова обмотана смоляной паклей. Лицо черно от дегтя.
— Бают, облегченье от хвори, коли избу-то дымом прокоптить. Смола, деготь, конский волос того полезней. Вымерли наши-то, вымерли в одночасье! Крестом и молитвой да куделькой со смолой спасаюсь. Вдвоем с Никитушкой осталися. А ниток как не надо? Иглы-то не ржавые?
— Хорошие, баушка. Нитки заводские, десятый номер.
Я присела на корточки: у пола немножко полегче дышится. Развязала котомку.
— Баушка, деревня ваша какая?
— Погост. Озерными прозывается.
— Правда? — обрадовалась я. Вышло довольно естественно. — Здесь моя тетя живет.
Старуха взяла иголки на ладонь. Измазанная дегтем, в волосяных путах, она была точь-в-точь как лешачиха.
— Тетя? Кто такая будет-то?
Заслонялась бабка плечом. Жадна старуха и на руку нечиста: спроворила-таки пару иголок воткнуть в кофту, чая, что я не замечу.
— Ч-чо? Чо, девонька, баешь?
— Говорю: Тамара Митрофановна, фельдшерица.
— Лекарша?!
Иголки посыпались на пол.
— Никита, — завопила старуха ни с того ни с сего. — Никита!
Растворилась горница. Несмотря на густой желтый дым, застивший свет, увидела, что в горнице люди. При оружии. На столе бутыль, поди, с самогоном.
— Лекарша заразу напускала, смутьянка большевицка, — надрывалась старуха. — Заарестовали, так на ее место племянница заявилася. Никита… хватай ее, сатану!
Я подняла котомку.
— Стой! — окрик в спину из горницы. — Куда?
Глава XXII
После свистка
День был воскресный. Во дворе спозаранок орудовали метлами дневальные из арестантов. Вот кому везет: окурок запросто можно стрельнуть, на помойке выудить чего съестного. Не привередничай, будешь сыт и нос в табаке.
Пыль подняли подметальщики. Надзиратель отошел, готово: из помойки торчат ноги в обмотках. Счастливчик, поди, гребет в карманы картофельную шелуху, может, селедочных голов откопал. Самый смак селедочная-то головка: соси да косточками поплевывай.
Э, Арсенька Уланов! Лопни мои глаза, если обознался!
Пофартило дезертиру чертову, вылез из помойки, карманы оттопырены.
Как жизнь, Арсеня? Помахал белой-то бумажкой с генеральскими посулами и по помойкам лазишь?
Сотни народу всякого в «финлянке», пленных тоже хватает.
Часам к десяти к тюрьме стали подкатывать экипажи, автомобили, высаживая важных господ. Промаршировал на плац вооруженный отряд, человек сорок. Кокарды, погоны, петлицы разноцветные. Сводный отряд, от всех каманских войск.
Парад, что ли?
Вскоре по коридорам раскатились дребезжащие трели свистков.
Старосты камер подхватили сигнал надзирателей:
— С нар долой!
Плевал я на свистки. С места не тронусь.
— Полундра, — командовал Дымба. — Кормой к окнам повернись!
Матрос мне мигнул: будь, салага, начеку.
Я что? Буду. С верхних нар через окно плац хорошо обозревается.
Когда надзиратели под револьвером вывели на плац заключенного в белой нательной рубахе, я смекнул: «Э, Федька, не парадом пахнет».
Дымба одним прыжком взлетел на нары:
— Что там?
— Не понимаю, Ося.
Матрос посмотрел в окно.
— Это Ларионов. На Пинеге его взяли. Бывший прапорщик, большевик.
Кроме Ларионова — он выделялся среди товарищей белой нательной рубахой, синими галифе, — перед солдатской шеренгой у стены поставили красноармейцев. Полураздетых, со следами побоев.
Ларионов был бос, поеживался и задирал офицеров:
— Одолжите папиросу, опричники.
Узнав о приготовлениях на тюремном плацу, у ворот скопилась праздная толпа. «Всех их к стенке! — надрывалась барышня с цветным зонтиком. — Бить… вешать беспощадно!»
Бородатый белогвардеец предложил повязки на глаза. Ларионов напрягся, цедя сквозь зубы:
— Если стыдно, себе закрой глаза!
Шеренга солдат в разномастных шинелях колыхнулась: одни после команды «на руку!» вскинули винтовки, часть же — это были итальянцы — демонстративно воткнула штыки в землю.
Залп ударил — я не сморгнул. Бывало, стукну по гвоздю молотком и то сморгну. А сейчас не сморгнул.
Чего уж, учись, Федька: всего раз живется на свете, зато и помирать единожды.
На груди, на белой рубахе Ларионова, упавшего вместе со всеми, расползлось кровавое пятно. Но он был жив. Раненый хотел подняться:
— Палачи! Умираем стоя.
Прошла долгая минута, пока один из офицеров, лощеный щеголь, поиграл на ладони револьвером и будто из одолжения прицелился Ларионову в лицо…
Трупы не убирались несколько дней. Изгрызенная пулями штукатурка еще дольше хранила пятна крови.
* * *Весной после дождей двинется в березах сладкий сок, мать-и-мачеха зажжет желтые фонарики на обочинах дорог, поплывут над кровлями изб грудастые облака — тогда в лесах тронется снег. Завытаивает на нем то, что зимой накопилось и было скрыто наслоениями метелей: следы зверей и птиц, сор древесный, хлам, обитая ветром хвоя. Уходит лес в воспоминания о прожитом, когда тронутся таять снега в густой чаще.