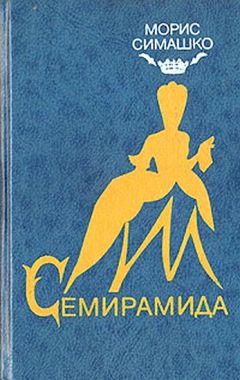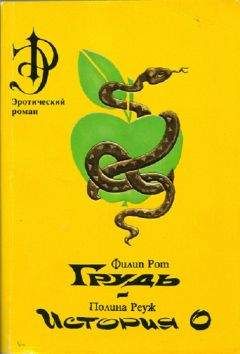Морис Симашко - Семирамида
— А как то случилось, Алексей Петрович, что королевские капли изобрел? Когда я маленькой была, сама от кашля ими пользовалась!..
Он вдруг смешался, посмотрел на нее с недоверчивостью:
— Да забыл я уж про то, матушка Екатерина Алексеевна!
В первый раз назвал он ее так и увидел, как довольно потеплело у ней лицо. Он принялся вдруг рассказывать, что молодым еще человеком, будучи послан от государя к королевскому двору в Копенгагене, подружился там с одним аптекарем да и занялся фармацевтикой. Желание имел совсем жизнь тому посвятить, да только долг перед государем посчитал выше. Все же много читал и лекции слушал, где приходилось. Самостоятельно составил эти капли и патент получил. Подспорьем это стало и в деньгах…
Никому раньше такого не говорил он о себе. Она слушала с интересом, и ему было приятно.
— Его высочество Петр Федорович и я станем уповать на твою испытанную мудрость, Алексей Петрович. Дозволь числить тебя в круге наших друзей!..
Прямое лицо в обращении к нему было теперь другого роду. По царскому правилу так следовало. Он низко склонился, произнес с чувством:
— Во всякое время отыщете во мне всенепременного раба вашего императорского высочества!
IIIПоручик Ростовцев-Марьин слез с коня. Отсюда, с возвышенности, был виден подходящий обоз. От самого горизонта тянулись двести телег с лесом да припасами, ехали четыре пушки, полторы роты солдат шли впереди и сзади. Предоставленные кайсаками верблюды с поклажей шли по бокам колонны, связанные веревками. Мерный звон колокольцев слышался из облака пыли. Тут и там маячили кайсацкие отряды. Время от времени какой-то из них приближался к колонне, старшины подъезжали к офицерам, вели разговоры. На привалах выставлялось обязательное угощение…
Здесь было место назначения. Весь год выбирали его, делали измерения. Присягнувшие России кайсаки ездили в Оренбург, просили продвинуть пост дальше в степь, чтобы обезопасить их кочевья от хивинских набегов. Также и немирные киргиз-кайсаки тревожили их. Просили о том и купцы из Бухары, имеющие в Оренбурге свое подворье. Им без охраны трудно было ехать через кайсацкую степь…
Тут тоже была речка, и от нее озера. Солдаты разбивали вешки. Пройдя чуть не двести верст по степи, обоз втягивался на выбранную для форпоста ровную площадь. Дальше в южную сторону шли пески и где-то за ними Аральское море.
Ростовцев-Марьин терпеливо ожидал, глядя на выплывающих из пыли верблюдов. С ними двигались возы поселенцев, что решили ехать сюда вместе с гарнизоном. Шли привязанные к телегам коровы, гнали коз и овец. А на старом посту, откуда они уехали, строилась теперь крепость, вокруг нее стоял уже целый город.
Показался наконец знакомый воз, крытый от солнца порыжелой кошмой. Кузнец вел лошадей под уздцы, сзади был приторочен горн и прочий приклад. Поручик показал место. Кузнец с Макарьевной и Маша стали сгружать с воза корыта, горшки, прялку, разный домашний скарб. Он помог кузнецу стащить на землю тяжелый сундук. Потом распрягали лошадей, стали на первый раз устраиваться. До зимы кузнецу предстояло поставить земляной дом, соорудить навес для работы.
Приехавшие с верблюдами кайсаки все поглядывали на Машу. В русском сарафане и с длинной косой ничем не отличалась она от прочих девок, да только больно празлет были темные брови и глаза на слегка удлиненном смуглом лице излучали некий чудный блеск. С того дня как отбил он ее у хивинцев, дважды приезжали из степи какие-то дальние ее родичи, хотели увезти с собой. Она выходила к ним, молчала, с тем они и уезжали. Кузнец с Макарьевной не имели детей и с первого дня вроде свету небесного сделалась для них Маша.
А поручик стал учить ее грамоте, благо книги для того нашлись от вяземского дворянина Коробова, не дождавшегося суда. На старом линейном посту квартировал он с другим офицером, а потому сам приходил к кузнецу в поселок и там учил с ней псалтырь да письмо. По-русски она стала говорить как-то сразу и вовсе без ошибок. Теперь уже и писала изрядно…
Через неделю по четырем сторонам на возвышенности наметился вал. Солдаты набрасывали его с лопатами и носилками, углубляя притом наружный ров. Наемные жатаки из киргизов делали у реки саманный кирпич и волочили сюда с верблюдами для будущей казармы. Из того же кирпича лепили дома поселенцы. Их уже вдвое прибавилось по сравнению с приехавшими со старого поста. Нельзя было сказать, откуда они взялись: беглые русские, туркмены с хивинской стороны, бухарцы, те же лепившие кирпич кайсаки. Паспортов не спрашивали, да все одно ни у кого их тут не было. Уже первая улица обозначилась за валом, да две поперек. Рано поутру звонко кричал петух, мычали коровы.
Ростовцев-Марьин приходил каждый вечер на двор к кузнецу, где ставили дом. Маша, помогавшая Макарьевне месить глину, умывалась к его приходу, надевала сарафан с красными цветами, и они шли гулять к речке…
Восьмая глава
Как при вспышке молнии в грозу увиделось сразу все. Ослепивший ее свет остался, прячась в темных углах, за гардинами у окон, где-то под кроватью. Навсегда уже пребывал он в мире. Первозданная боль рвала на части тело, и как раз тогда пришло озарение. Она не кричала — лишь кусала себе руку…
Теперь ей было холодно, и уже в подробностях оценивала она, что явилось в короткий миг. Лицо его не имело твердого очертания. То вдруг проявлялось в прекрасной своей мужественности, потом будто уходило в воду, размываясь, теряя плотность. Так было всякий раз, когда тошнота начинала подкатываться к горлу.
В первый раз это произошло перед очередным отъездом в Москву, когда почувствовала особенность своего положения. Сразу зашептались о том Чоглокова с приставленною к ней Владиславовой и позвали повитуху. А в его глазах появилась туманность. Он рассеянно смотрел в потолок, не чувствуя ее просительного взгляда. В Москву он тоже приехал тремя неделями позже, объяснивши задержку делами. К тому времени был у ней выкидыш…
И опять стал поворот головы к ней древнего героя. Всякий знак ее был для него приказом, счастливое солнце сияло в небе. Люберцы, что отдала императрица великому князю, сделались их эдемом. Но снова сделался он равнодушным, как только пришло к ней новое положение. Даже зевал с нею тайком. Она кусала платок, чтоб не плакать, но слезы текли сами: горькие, отчаянные. Он говорил, что трудно каждый день ездить к ней с другого края Москвы. К тому же следует притушить разговоры про них. Потом пламя взметнулось к черному небу, осветив кресты с полумесяцем, и она снова выбросила плод…
В третий раз возвращалось к ней счастье. Что только не делала она, чтобы задержать его возле себя: завлекающе смеялась, требовала, просила униженно. И теперь все поняла, что знала давно, с первого их разговору…
Было еще нечто, холодной липкостью оставшееся к ней…
В то счастливое последнее преображение они вдруг оказались в задних комнатах нового дворца, что после большого пожара в шесть недель был построен императрицей. Никого не было с ними, и сани с тайной полостью ждали у крыльца. Музыка и гром голосов новогоднего бала неслись им вслед. Они мчались через летящий снег, луна показывалась и ныряла в тучи. Потом на его квартире совсем от всего свободная, с холодными от морозу коленями обнимала его и плакала от любви…
Когда она возвратилась, то увидела, что никто и не спрашивал о ней. Бал расходился. Подошел вдруг великий князь, запрыгал вкруг нее, позвал с собой. По дороге рассказывал, что вовсе уж не дружит с курляндской принцессой, а вот Марфа Шафирова не понимает его чувств. Шатнувшись, он прошел за ней в дверь, крикнул человека раздеться…
Она находилась будто в бессильном сне. И когда прижался он к ней, вдруг проснулась… Луна опять неслась, ныряя в тучах, снег залетал в сани. Сама собой уже летела она в беспредельность… Как только закончилось это, будто в некую яму провалилась она. Эйтинский мальчик, смотревший с восторженным удивлением, ничего не понял…
От кого же был тот кричащий комок, что унесли от нее на бархатных подушках, бросив ее одну?.. Начинало темнеть за высокими окнами, и никто не приходил к ней. Влажная сырость стояла в комнате, от плохо прикрытой двери тянула ледяная струя. Даже посмотреть не дали ей сына, и она не хотела сейчас этого…
После того разговору у моря императрица при ней бранила в крик Чоглокову, что плохо напоминает ей о наследнике. Все знали об охлаждении с графом Алексеем Григорьевичем, и везде был теперь молодой Шувалов. Еще и юного пажа-рифмотворца Бекетова с кукольным лицом видели при дворе. Но замечен тот был в любезной связи с другим пажом. Таковой противоестественности императрица не терпела, за что и был тот изгнан полковником в армию.
И Чоглоковой вдруг стало не до чего. Как рыба лишь открывала и закрывала рот, когда открылось все об муже ее и Кошелевой. Сама императрица делала выволочку да мирила их. Кончилось тем, что Кошелеву послали рожать в деревню. А Чоглокова, сама народив седьмого ребенка, без памяти сделалась от Петра Репнина, так что при всей Москве ездила к нему домой. Чоглоков всем жаловался на жену, потом лег и умер…