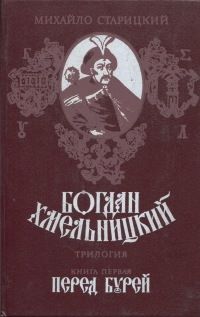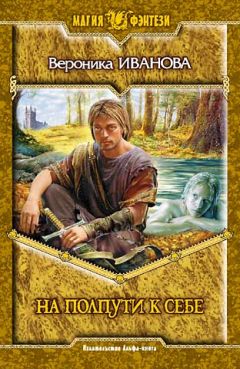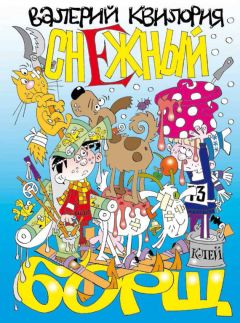Валентин Рыбин - Знойная параллель
Федор Улыбин жил в казарме. Он еще во время Октябрьского переворота, когда многие рабочие в свои деревни подались, занял в казарме три комнаты. На первом этаже. Стучимся к нему. Выходит сам.
— Санька, мать ты моя честная! Приехал! Да еше и не один! Входи, бедолага!
Обнялись мы, как и подобает закадычным друзьям, хоть и старше Федор годов на десять, а то и больше. Жена его, Лукерья,— тоже с объятиями и тут же с вопросом:
— А у своих-то был? Чтой-то прямо с чемоданами к нам?
— Был,— говорю.— Общего языка не нашли. Видишь ли, жена моя им не понравилась.
Федор, смотрю, посуровел. Помолчал немного, говорит:
— А чего ты еще ждал от своего папаши? Он же у тебя ярый консерватор. Противник всяческого прогресса.
— Ишь ты, Федор, каким умным словам обучился,— смеюсь я над ним.— Что папаша мой консерватор — это точно, как пить дать.
— Ну, ничего, сердечные,— успокаивает Лукерья.— Поживете у нас, а там осмотритесь — и устроитесь по своему вкусу.— Жену-то как зовут?
— Зиба,— говорю я и спрашиваю Федора: — А ты, командир, неужто не узнал мою пленницу? Помнишь тогда, из мазара я привел? Девочкой была... Отвез ее тогда в детприют, а после встретились...
Долго мы сидели в тот вечер, вспоминая пути-дороги по Туркестану. Рассказал Федору, с каким заданием прибыл в Реутов. Федор и говорит:
— Это по моей части, Саня. Не знаю, что там в ЦИКе тебе скажут, но делегацию твою придется размещать мне. Больше некому. Я начхоз. У меня весь инвентарь, конфискованный у старого хозяина фабрики. И ключи от всех домов, которые пустуют, тоже у меня.
— Слушай, Федор, может разместим туркмен в бывшей усадьбе Карла Эдуардовича? Два этажа, балконы, фонтаны и прочее,— предложил я.
— Опоздали малость,— отвечает Улыбин.— В усадьбе фабриканта нынче больницу открыли для рабочего класса. А вот те дома...— Он подзывает меня к окну и показывает на два двухэтажных деревянных дома, которые стоят прямо в лесу.— Помнишь, в них служащие конторы и всякая чиновничья мелочь жила?
— Помню, как же не помнить.
— Ну вот,— продолжает Улыбин.— Эти дома пустуют. И ключи у меня.
— Спасибо тебе, Федор,— говорю.— Завтра отправлюсь к самому Михаилу Ивановичу Калинину. Так и доложу, что есть, мол, помещения для жилья.
Сели ужинать. Тут Верка, дочь Федора, приходит с работы. Когда я уезжал, ей девять годов было, а теперь девушка. Чуть-чуть помоложе моей Зибы. Ну, встретились, как полагается. Познакомил я ее с женой, попросил, чтобы поухаживала за ней, пока я в Москве буду. Верочка, разумеется, рада. Только познакомились, сразу нашли общий язык. Потянула Зибу в свою комнатушку, там принялась ей показывать книжки да фотографии. Бог их знает, чем они там занимались, пока мы с Федором всяческие проблемы решали. В конце концов Федор устал и говорит:
— Ну что, Саня, занимай со своей женушкой третью комнату. Там и живите покуда. Мне ведь что? Мне еще веселее с тобой.
Утром чуть свет я отправился на станцию. Сел з поезд, подался в Москву. К Михаилу Ивановичу Калинину не попал. Проводили к одному из его помощников, которому поручено было заниматься туркменскими вопросами. А у него целая документация по устройству туркменской молодежи. И письма, и телеграммы от туркменского оргбюро. И даже списки, кто именно едет. Я, например, даже и не подозревал, что помимо Реутова и Твери и в другие места едут учиться туркмены. Оказывается, целая группа шелководов собирается на шелкомотальные фабрики Самарканда, будущие работники Полторацкой ГРЭС — в Баку. И высший, государственный аппарат для Туркмении создается. Отобраны наиболее инициативные, преданные партии и Ленину комсомольцы и коммунисты. Им отведено бывшее поместье какой-то мадам Корзинкиной в Серебряном Бору. Теперь этот дом будет называться Туркменским домом просвещения. С него, собственно, и начался мой разговор в Кремле с помощником председателя ЦИК.
— Вам надо будет встретиться с директором Дома просвещения. Вот его адрес. Гостиница «Европа». Номер 36. Спросите Иомудского. Скажете, что я прислал.
— Непременно навещу его,— согласно киваю я.
И начинаю высказывать свои соображения по поводу размещения. А он рассердился вдруг:
— Товарищ Природин! Вы за кого меня принимаете? Вы что же думаете, я должен каждым отдельным домом и квартирой заниматься? Может, еще каждой лавкой и печкой? Вам раз и навсегда надо уяснить, что вы ответственный за целый участок работы. А участок ваш — не только размещение туркменочек, но и устройство их быта, работы, учебы и культурного отдыха. Так что будьте любезны смотреть на порученное дело масштабно, с государственной точки зрения! По этому вопросу я вас выслушаю, когда отчитываться будете. А сейчас действуйте. И чтобы без жалоб! Побольше собственной инициативы. Размещайте пока на свое усмотрение, а через год-другой мы построим специальный дом для туркмен, обучающихся в Реутове. Архитектор уже есть, работает над проектом. И проект здания чисто в национальном стиле.
— Все ясно,— говорю.— Только еще вопрос такого характера. Там, в Полторацке, товарищи мне говорили, будто Реутовка целиком будет передана туркменской республике. Так или не так? Сомневаюсь что-то. Думаю, просто учиться они тут будут, на положении гостей.
— А вот и зря сомневаетесь, товарищ Природин! — опять сердится помощник председателя ЦИК..— Реутовскую прядильную фабрику мы отдаем туркменам и называться она станет: «Реутовская прядильная фабрика туркменской государственной мануфактуры». Так что, слово «гости» — самое чуждое слово сейчас для нас. Хозяева мы все. И русские, и туркмены — все, у кого корень бедняцкий,— нынче хозяева страны. Так что, приезжие твои должны себя чувствовать полными хозяевами — и того дома, в каком будут жить, и фабрики, и собственной своей судьбы.
— Спасибо,— говорю.— Мне все ясно. А теперь скажите, когда прибывает поезд с делегацией?
— Пока не скажу. Заходите, интересуйтесь. Как только выедут из Туркмении ваши бригады, я скажу.
— Разрешите идти?
— Сразу видно бывшего командира! — восклицает помощник.— Только не забудьте, зайдите к этому бывшему хану... Иомудскому.
— Сейчас же зайду.
Выхожу и только тут до меня доходит: «Неужто тот самый хан Иомудский, за которым я в Персию, на реку Гурген ездил?»
Стучусь в 36 номер. Открывает дверь высокорослый юноша. Костью широк, лицо такое, что не поймешь: то ли европеец, то ли туркмен, и выговор чисто русский, даже с какой-то волжской припевкой:
— Вам кого? Вы, видимо, обознались номером.
— Иомудский здесь живет? — спрашиваю.
— Здесь,— удивленно отвечает юноша и зовет.— Папа, к тебе пришли.
К двери выходит бывший полковник Иомудский, сутулый, облысевший, скользнул взглядом и не узнал меня.
— Здравствуйте, Николай Николаевич. Не узнали?
— Да нет-с, не признаю что-то. Из военных?
— Комиссар красный, — говорю. — Природин. Быстро забыли.
— Да-да-да! — спохватывается он. — Вспомнил, как же! Это же вы с двумя товарищами в Кумыш-тепе приезжали! Но не узнать вас. Ей-богу, не узнать! Возмужали и пополнели, что ли?
— Может быть. Ну, как ваша судьба складывается? Вижу, нашли свое место в жизни?
Иомудский подобрел как-то сразу, засуетился:
— Что же мы стоим у порога? Входите, раздевайтесь. Присаживайтесь. Милости просим.
Иомудский предлагает кофе, поскольку вино, по его признанию, он не употребляет. Наполняет маленькие голубые чашечки кофе и словно бы спохватывается:
— А это мой младший сын. Вы, должно быть, помните его?
— А как же! — говорю. — Сразу не узнал, а как пригляделся, ну так и стоит теперь портрет мальчишки в глазах, который в чайхане у Серебряного бугра два фунта конфет купил
— Неужели помните! — радостно восклицает юноша. — И звать как — помните?
— А как же, — говорю. — Зовут тебя Караш, Помню и то, как вы переживали, когда ваш старший, офицер-гусар с актрисой во Францию убежал.
— Да,— вступил в разговор Иомудский.— Старший мой, Хидыр, пошел иной дорогой. Во Францию, в Париж подался, один бог теперь знает: жив или пропал где-нибудь? Бедовая голова. Родиной поступился. А как без нее, без родины? Долго об этом я думал там, в Кумыш-тепе, и пришел к выводу — без родины — всякому смерть! Не будь детей да жены, я бы наверное пустил себе пулю в лоб. Жалко их стало. Рассуждать стал. А раз пустился в рассуждения, значит, пошел на смирение. Ну, тут вы, товарищ Природин, к счастью моему подоспели. Вам я век буду благодарен...
— Да ну, что вы, Николай Николаевич! Не за что благодарить. Это вам спасибо от Советской власти, что вернули все свое племя из Персии. Теперь видите: дети тех бедняков на учебу в Москву едут. А то пропали бы не за понюх табаку на чужбине.
— Пропали бы, — соглашается Иомудский и, помолчав, признается: — А я ведь, признаться, не верил, что в нашей разрушенной и обескровленной гражданской войной стране дело дойдет и до науки. Сейчас стыжусь своего недоверия. Я ведь это свое недоверие — знаете кому высказал? Самому Сталину.