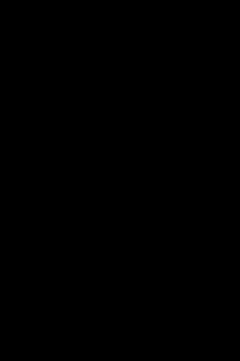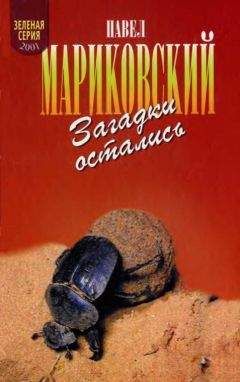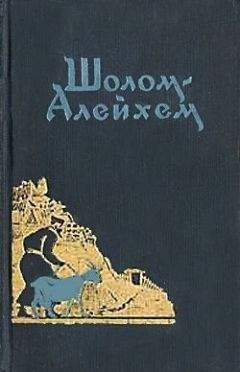Павел Дорохов - Колчаковщина
Высокий плотный мужик, сидевший сзади Димитрия, обернулся к белобрысому.
— Типун тебе на язык. Еще столько, — мало воевали. Ты, поди, впервые на войне, а я вот три года с Германией воевал, так мне, паря, вот по какое место эта война.
Высокий мужик выразительно похлопал себя по затылку.
Белобрысый солдат смущенно улыбается.
— Да я что ж, я так только, к слову пришлось. Незаметно, говорю, что народ убывает.
Высокий недовольно ворчит:
— Теперь и воюют, пес их знает, за что. Тогда против немца воевали, ну, чужой будто, вроде, как враг. А теперь тут, как-никак брат на брата идем.
Из кучи тел высунулся тощий черненький человек. Была у человека черная, клинышком, бородка и черные усы, выбритые по-модному, — когда под самыми ноздрями оставляют клочок волос и когда кажется, что у человека всегда нечисто под носом. Человек умильно посмотрел на высокого и ласково спросил:
— Это большевик, что ли, тебе брат?
— Мне не только большевик, мне и киргизин брат. Вот только спекулянт мне не брат, а враг лютый. Самый это расподлейший народ по мне, хуже разбойника.
Высокий смотрит на черненького со спокойной усмешкой, сверху вниз. Слова у высокого взвешенные и примеренные. Черненький не выдерживает, вскакивает. Трясет клинышком, наседает.
— Ты не очень-то. За такие разговоры знаешь, что теперь полагается?
— Я знаю, что за такие разговоры полагается. А ты что, из спекулянтов, видать?
— А хоть бы и из них, тебе какое дело. Попробовали бы без спекулянтов. Кто вам товар достает, не мы разве?
В голосе черненького дрожит обида. Ходуном ходит бороденка.
— Туда же — спекулянты! Понимаешь ли ты еще слово-то самое. Попробовал бы вот, до Харбина да еще дальше — до Владивостока — в теплушке вот эдак-то в куче муравьиной доехать да с товаром обратно. Пропали бы вы без нас.
— Куда там, без порток бы остались.
— И остались бы.
— И остались бы.
Высокий отмахнулся, как от надоедливой мухи.
— Ладно. Вытри под носом, а то, ишь, табаку нанюхался.
Черненький сконфуженно, под общий смех вагона, схватился за невыбритый под ноздрями клочок.
3В уголке вагона тоскует маленький старичок.
— И чего только людям надо?
Сидит старичок на корточках перед печкой, ворочает длинным железным прутом догорающие головешки и тоскует.
— Жили б себе да жили. Ну, подрались малость и будет. Вон у нас в деревне уж на что снохи злые бывают, а и те погрызутся-погрызутся, потаскают друг дружку за волосы да и перестанут. А ведь тут хуже злых снох.
— Порядку, дедушка, хотят.
— А по мне бы так, — хочешь порядку, так и заводи порядок, только без драки. Порядок завсегда после драки, а не в драке. Взяли бы да и отошли к горам. Это, мол, вот Сибирь, и будет у нас свой порядок, и сюда нам чтобы ни шагу. Окружили Сибирь стеной да и заводите порядок. А так и другие порядку вашему позавидуют, если ваш порядок хороший, и у себя такой же порядок без вашей помощи заведут. И драться не надо. Порядок-то, милые, завсегда после драки. Вот бы как по мне. А то ведь грех один, не по заповедям живем.
Черненький с клинышком выглядывает из-за груды мешков и ехидно смеется:
— Какой ты, дедушка, умник. Ты бы сказал, посоветовал бы министрам, добрался бы до них.
Старичок ласково улыбается.
— А ты не смейся, милый друг, я — то бы сказал…
— Ну и скажи.
— И сказал бы, да не спрашивают нас, мужиков-то. Вот, милый друг, загвоздка-то в чем, не спрашивают народ-то, какого он порядку хочет, без народу хотят.
Голова черненького провалилась в груду мешков.
…На одной из станций в теплушку вперлись два вихрастых казака и юнкер. Юнкер совсем еще мальчик, даже форму юнкерскую не успел обменить. По нарукавникам, с изображением мертвой головы и двух перекрещивающихся костей, Киселев догадывается, что казаки и юнкер из отряда атамана Анненкова. Димитрий впервые видит так близко прославленных героев грабежа, разгула и насилий, делает безразличное лицо и внимательно вслушивается в разговор казаков.
— Ах, язви ее, и чтоб ей, суке, раньше захворать! Пасху дома бы провел.
Приземистый, широкоплечий, с широкими монгольскими скулами казак громко смеется, ляскает крупными желтыми зубами. Он ездил в отпуск к тяжело больной матери и жалеет, что она не заболела раньше месяца на два, пасху бы провел дома. Другой казак и юнкер сочувственно улыбаются.
Широкоскулый в сладкой позевоте потянулся всем телом и вдруг, на полдороге прервав зевок, хлопнул себя по коленям.
— Жуков-то, Жуков-то, вот дурак!
— Ну что Жуков?
— Дурак, язвило б его в бок, и больше никаких! Зарубил шпака в кофейной, убежал и шашку со страху оставил. Шашку подобрали, а на ней фамилия его, дурака, вырезана.
— Действительно, дурак!
— Да и сам еще фамилию-то вырезал.
Казак загорелся, заерзал на месте, замахал руками.
— Эх, я бы его… я бы его, шпака, вот как… Я бы из него котлетку сделал, на Иртыш бы сбегал, клинок вымыл, — на, смотри, я не я, лошадь не моя!
Юнкер давно порывается что-то сказать, ему так хочется поделиться впечатлениями и показать своим видавшим виды товарищам, что и ему есть что порассказать.
— На прошлой неделе, — говорит юнкер, — мы всех шпаков из кофейки выгнали, поставили караул и всю ночь кутили. Утром взяли продавщиц из кофейки, да за город. А девочки — сок… Плачут потом, дурочки.
— На всех хватило?
— На всех.
— Ах, язви вас! — восторженно подпрыгнул на месте широколицый и захлебнулся в широком плотоядном смехе…
Проснувшись рано утром, Киселев заметил, что широкоскулый раскаливает на огарке свечи какую-то проволочную развилку, похожую на камертон, и перед маленьким осколком зеркальца любовно и долго завивает свой чуб.
4В город Киселев приехал в полдень. Прямо с поезда отправился в земскую управу, дождался приема у председателя и передал ему письмо от Николая Ивановича. Председатель пробежал первые строки письма.
— А, от Николая Ивановича, помню, помню.
Он позвонил и приказал вошедшему курьеру.
— Попросите Павла Мефодьича.
— Это член управы, заведующий лесными заготовками, — обратился председатель к Димитрию, — я с ним уже говорил о вас, сейчас мы это дело закончим.
Вошел Павел Мефодьич, высокий, слегка сутуловатый человек в синей бумазейной рубахе-косоворотке, подпоясанный узеньким желтым ремешком. Лицо у Павла Мефодьича было бледное, немного худощавое, глаза голубые и ясные.
— Вот, Павел Мефодьич, познакомься, это товарищ, которого Николай Иванович рекомендовал на заготовки, помнишь, я с тобой говорил?
— Да, помню.
— Так вот договорись с товарищем.
— Мне бы прежде всего приютиться где, — сказал Киселев, — я сюда прямо с вокзала.
— Ну, на этот счет у нас свободно, на любом столе ложитесь, — улыбнулся председатель. — Ведь вы недолго у нас пробудете?
— Да я бы готов хоть и сейчас.
— Ну нет, — отозвался Павел Мефодьич, — так скоро вы не уедете. Пока с делом познакомитесь, да пока вам подберут всякий материал, да приготовят документы, — раньше трех-четырех дней и не выберетесь.
Киселев вместе с Павлом Мефодьичем прошел в его кабинет.
Но разговаривать о предстоящей Димитрию работе им так и не пришлось, — Павла Мефодьича до самого конца занятий беспрерывно отвлекали. Обедать он пригласил Димитрия к себе.
— Как дела на фронте? — полюбопытствовал Киселев за обедом.
— Вы давно не читали газет? — в свою очередь, спросил Павел Мефодьич.
— Положим, не так давно, ну да что ж там в газетах… Нет ли чего подостовернее от людей знающих.
— Нет, вы все-таки прочтите наши столичные газеты за последнюю неделю, я вам подберу номера. Ну, а вообще-то дела на фронте плохие, наши служащие совсем носы повесили.
Киселев не понял, — при чем же тут служащие.
— Видите, в чем дело, служащие у нас больше все беженцы из приволжских губерний, так многие собирались к пасхе домой вернуться, — постом дела на фронте были блестящи, все были уверены, что к пасхе сибирские войска будут в Самаре. А тут вдруг такой непонятно быстрый переворот, теперь сибиряки почти бегут.
— В чем же дело?
— Говорят, будто красные свежие силы бросили на фронт, ну да и сибирские войска достаточно разложились. Ведь в конце концов как ни уверяй солдат, что большевики хуже самого злого врага, а лозунгов-то против большевиков у адмирала нет.
— Да, лозунги слабоватые, — усмехнулся Киселев.
— Уж куда слабые. Ну, а у большевиков лозунги краткие и выразительные: отбирай у фабрикантов фабрики да заводы, а у помещиков — земли. Правда, у нас в Сибири помещиков нет, ну да мужик до земли всегда охоч, у кого бы ее ни отбирать, а армия сплошь мужицкая, вот и обопрись, поди, на такую армию!