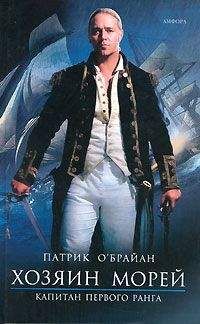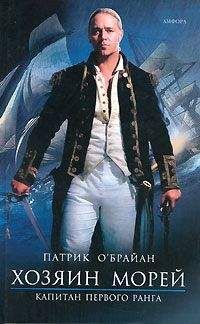Валерий Замыслов - Иван Болотников Кн.2
Богатырствовал Добрыня Лагун, сокрушая бар пудовой палицей.
Богатырствовал казачий атаман Мирон Нагиба.
Богатырствовало народное войско.
Полки Михайлы Нагого, отступив, закрепились за подводами; соединили полукольцом сотни телег.
Повольники, наткнувшись на прочный заслон, остановились.
— Что будем делать, воевода? — вопросили начальные.
Болотников, оглядев поле брани, усеянное трупами и ранеными, приказал:
— Ловите барских коней.
Поймали с сотню. Иван Исаевич взметнул на белого аргамака. Теперь воеводу стало видно всей дружине.
— Не притомились, ребятушки? Знатно погуляли ваши топоры да сабли по барским шеям. За обозы попятились, недруги. Ну да клин клином вышибают. Не отсидеться барам за сей крепостью. Сколь кобылке ни прыгать, а быть в хомуте. Вперед, други! Круши царево воинство! Впере-е-ед!
Взмахнув мечом, поскакал на обоз; за воеводой бурным грозным потоком устремились вершники и пешие ратники.
Конь под Болотниковым резв и стремителен. Иван Исаевич припал к густой шелковистой гриве, сливаясь с горячим скакуном. Внезапно дохнуло ковыльной степью, Диким Полем, лихим казачьим набегом, когда он удало и неудержимо несся на злого ордынца.
Все ближе и ближе подводы, все быстрей и стремительней бег аргамака. За обозным тыном — длинные острые копья, сверкающие шеломы, злобные лица, смерть. На какой-то миг захотелось осадить коня, но короткую ознобную вспышку тотчас захлестнула всепоглощающая, ничем не обузданная ярость.
На полном скаку перемахнул через вражий заслон. Молнией засверкал меч. Чем-то острым и жгучим ударило в плечо, но Иван Исаевич, не замечая боли, крушил господ-недругов.
Подоспели Мирон, Нагиба, Устим Секира, Добрыня Лагун… В открывшийся проход густо хлынули ратники. Рубили врагов, раскидывали телеги. Дюжие мужики, вооружившись длинными, увесистыми оглоблями, били дворян по панцирям, колонтарям и шеломам, сбивали наземь.
Звон, лязг мечей и сабель, ржанье коней, злые отчаянные вскрики воинов, хрипы и стоны раненых…
Сеча!
Над ратным полем зычный воеводский клич:
— Навались, навались, ребятушки!
Не выдержав натиска, дворянские полки Нагого откатились к стану Трубецкого.
Кольцо замкнулось!
Дружины Болотникова, Берсеня, Нечайки и Беззубцева тугим обручем стянули царево войско.
Враг сник, заметался. А тут и оружные кромцы выскочили. Ратники Нагого, отступая, побежали к Недне. Но все пять мостов рухнули, служилые забарахтались в воде; кольчуги, латы и панцири тянули дворян на дно. Кое-кому удалось выбраться на берег, но тут набежала сотня Семейки Назарьева с топорами и орясинами.
Один из дворян, кошкой сиганувший на старую ветлу, заорал:
— Измена, служилые! Секи мужичье!
Семейка пальнул из пистоля. Дворянин охнул и грянулся оземь. Служилые кинулись было на мужиков, но, увидев скачущих казаков, побежали вдоль Недны к спасительному угору с пушкарским нарядом.
А кольцо все сужалось. Дворяне заполонили угор. Кузьма Смолянинов сокрушенно забегал среди воинства.
— Куды прете?! Мне ж палить надо. Прочь от наряда!
Но все смешалось: и пушкари, и обозные люди, и дворяне служилые. Встретить воров картечью и ядрами стало невозможно.
Федька Берсень, углядев переполох на увале, гаркнул:
— Добудем наряд, донцы! Гайда!
— Гайда!
Казачья лавина понеслась к увалу.
«Ныне мои будут пушки. Ныне не осыплют дробом. Кузьму Смолянинова в куски изрублю!» — несясь на гнедом скакуне, жестоко думал Федька.
Служилые встретили казаков в сабли. Берсень бился с дворянами и зыркал по сторонам: искал пушкарского голову. Знал: тот большой, могутный, рыжебородый, на кафтане его должна быть медная бляха с орлом.
И приметил-таки! Голова отбивался невдалеке от казаков; отбивался отважно, полосуя донцов тяжелой саблей; от могучих ударов летели казачьи головы.
— Не робей, не робей, пушкари! Постоим за царя-батюшку! — восклицал Смолянинов.
— Станишников губить, собака! — наливаясь клокочущим гневом и пробиваясь к наряду, закричал Федька.
Пушкарей оставалось все меньше и меньше.
Кузьма Смолянинов отскочил к пушке, схватил дымящийся фитиль, отчаянно крикнул:
— Не гулять вам по Руси, ироды! Не служить Расстриге!
Федька, углядев, как голова метнулся к бочонку, заорал:
— Вспять, вспять, донцы!
Но в ту же минуту раздался оглушительный взрыв. Десятка два казаков были убиты.
Федьку едва не вышибло из седла; усидел, зло скрипнул зубами.
— Смерть барам, станишники!
— Смерть! — яро отозвалась повольница.
Дворян смяли с угора, погнали к Недне.
Остатки полков Трубецкого и Нагого бежали к Орлу.
Дружина Болотникова ликовала.
Иван Исаевич снял шелом. Набежавший ветер взлохматил черные с серебром кудри. Глянул на рать, земно поклонился.
— Слава тебе, народ православный! Слава за победу, что немалой кровью добыли. Враг разбит, но то лишь начало. Нас ждут новые сечи. Впереди — царь Шуйский с боярами. На Москву, други! Добудем волю!
ЧАСТЬ III
Огнем и мечом
Глава 1
Истома Пашков
Пятитысячное войско дворянской служилой мелкоты двигалось из Путивля к Ельцу. Ехали конно, с обозом и «даточным» людом. Воеводой — веневский сотник Истома Иваныч Пашков.
Среди дворянского войска находился и казачий отряд в три сотни; донцы примчали в Путивль с Раздоровского городка, примчали шумные, дерзкие. Галдели, потрясая саблями:
— Не люб нам боярский ставленник! Не видать Дону зипунов и хлеба. Гайда к царю Дмитрию!
Ярились, драли горло. Истома Иваныч довольно оглаживал русую бороду. Ишь как на Шуйского озлобились! То и добро. Чем больше у Шуйского недругов, тем скорее его погибель. Боярский царь на троне — горе дворянству. Не видать ни чинов, ни вотчин, ни мужика пахотного. Высокородцы все к себе пригребут. Шуйский боярам крест целовал. По гроб ваш-де буду, не допущу ко двору худородных! Не позволю издревле заведенные порядки рушить. Борис Годунов норовил на старину замахнуться, так бог его и наказал. Сдох в одночасье. Из святого храма изгнан.
Тело Бориса, погребенное по царскому чину в Архангельском соборе, выкопали с позором и, сунув в некрашенный гроб, отвезли на Сретенку и захоронили на подворье Варсонофьевского монастыря. Там же закопали царицу Марью и царевича Федора, убитых Голицыным, Молчановым и Шелефединовым.
Михайла Молчанов ныне у шляхты в Сандомире. Сказывают: высоко вознесся, подле самого царя Дмитрия ходит. Государь же вот-вот выступит на Русь. Худо придется Шубнику.
Пашков всегда недолюбливал князя Василия, а теперь и вовсе возненавидел. Случилось это два года назад, когда Истома был послан веневским головой на Москву. Время голодное. В стольном граде нещадно разбойничала чернь.
Ехал по Москве зимними сумерками. В одном из глухих переулков навалились на Истому лохматые мужики с дубинками; вмиг стащили с коня, натянули на голову мешок, опутали веревками и куда-то поволокли.
Мало погодя притащили Истому в душный, закоптелый сруб; скинули мешок, освободили от пут. В срубе смрадно чадил факел, воткнутый в железный ставец.
Пашков молчаливо обвел хмурыми глазами татей. Их было около десятка: кудлатые, в рваных дерюжках, в старых облезлых шапках.
— Перетрухнул, барин? — вопросил рослый сухотелый детина.
— Мне вас, лиходеев, пужаться неча, — спокойно отозвался Истома.
— Так ить живота лишим, — подскочил к Пашкову худой, длинношеий космач со злыми прищуренными глазами. Выхватил из-за голенища сапога нож, приставил к Истоминой груди. — Кровя выпущу, барин. Страшно, хе-хе.
— Страхов много, а смерть одна, тать.
Лихой присвистнул.
— Нет, ты глянь на него, Тимоха! — повернулся космач к детине. — Эких бар мы ишо не заарканивали. Ужель и впрямь не боится?
Кольнул Пашкова в шею, потекла кровь.
— Буде, Вахоня! — строго прикрикнул Тимоха и, поднявшись с лавки, подошел к Истоме.
— Ране не зрел тебя на Москве. Никак уездный дворянин? Чего ж без слуг пожаловал? В Белокаменной у нас лихо. Откуда ты?
— Не пред тобой мне ответ держать, — сердито молвил Пашков.
— Вестимо, — хмыкнул Тимоха. — Баре перед смердом шапку не ломают… А по одежде ты служилый. Вон и пистоль, и сабля, и бляха с царским орлом. В головах ходишь, а?
— Не твое песье дело. Кончай уж.
— Не задолим, барин, — вновь подскочил Вахоня. — В сей миг на тот свет отправим.
Истома глядел на лица татей и отрешенно думал:
«Не гадал, не ведал, что так помереть придется. Ну, да все от бога, каждому свой удел… Брониславу жаль. Кручиниться станет, с горя иссохнет… Чада? Чада погорюют малость и забудут. Ребячьи слезы иедолги. А супругу жаль. Славная женка…»