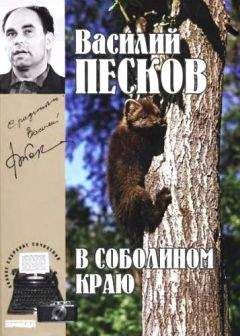Софья Могилевская - Крепостные королевны
Яркие лучи мартовского солнца поднялись теперь выше, к той картине, которая висела напротив окна. И озарилось светом лицо Аполлона и сладкозвучная лира в его руках. Дуне словно бы послышалось, как нежно зазвенели струны под пальцами Аполлона, и вся она затрепетала в ответ на музыку, которую никто, кроме нее, не мог слышать…
На следующий же день по приказанию Басова в репетишную перенесли клавесин. И прекрасную золотую арфу. Все музыкальные инструменты, ноты и пюпитры.
Спустилась из своих покоев мадам Дюпон. Была она в той заячьей душегрейке, которую ей подарил Басов. Щеки нарумянила, припудрила седые букли, свисавшие вдоль щек.
Оглядев репетишную комнату, обрадовалась, залепетала:
— Тепло, очень тепло… И очень красиво!.. — Велела поскорее вести к ней на урок девочек и взрослых актрис.
Однако мираж сей недолго длился — в конце марта барин потребовал Григория Потаповича к себе в Москву…
Глава девятая
Последняя песня
День этот начался худо, а кончился еще того хуже.
После тон уборки в репетишной комнате Фрося как слегла, так более и не встала. А накануне вечером и вовсе впала в забытье. Лежала, закрыв глаза, только иногда слабо стонала. II сейчас с дерюжки, на которой она металась, раздавался ее стон.
Дуня подошла. Наклонилась над ней:
— Водицы тебе, Фросенька? Хочешь, холодной подам?
Фрося не ответила. Лишь на Дунин голос чуть приоткрыла помутневшие глаза.
Смахнув слезы, Дуня отошла. Знала, что Фросе не оправиться от тяжкой этой болезни.
В горнице они были втроем: больная Фрося, Василиса да она, Дуня. Верку Матрена Сидоровна послала узнать: не вернулся ли наконец из Москвы Григорий Потапович? Люди видели его в одном из кабаков, на дороге в Пухово. Из Москвы, стало быть, уже выехал. Видели его хмельного, лохматого, на себя непохожего. Чего-то он во хмелю неладное бормотал, шибко бранился. Словно бы даже барина своего, Федора Федоровича, поносил…
Когда об этом рассказали жене его, та заголосила, запричитала, волосы на себе принялась рвать: отродясь такого не случалось с ее Григорием Потаповичем. Отродясь он никогда в рот хмельного не брал. Беда стряслась у него. Неладное на их головы свалилось…
А что стряслось? Какая беда? Никто угадать не мог, хотя об этом судили-рядили немало.
Этот мартовский день был похож на зимний. Как в зимнюю пору, с севера нахлынули тучи, налетел ветер, повалил снег. На длинной сосульке, которая прямо перед окном свисала с крыши, на самом острие замерзла ледяная капля вчерашней талой воды. Не успела скатиться вниз, на лету прихватило ее морозом.
Хоть утро, а темно и сумрачно было в горнице.
Дуня подошла к Василисе, окликнула ее. Василиса стояла у оконца хмурясь, смотрела, как ветер со злой свирепостью тормошит голые верхушки берез.
И Дуня поглядела в окно. Далеко-далеко за оврагом, за безлистыми ветками деревьев, за мутной завесой падающего снега виднелась деревня. А трех рябин возле двора Марфы разглядеть было нельзя.
— Васюта, — шепотом проговорила Дуня. — Может, сбегать на деревню к Марфе? Может, какой целебный корешок даст?
Невмоготу ей было смотреть на Фросю, слышать ее хриплое дыхание.
— Не знаю, — ответила Василиса. И, глянув на лежавшую в беспамятстве Фросю, сказала: — Уж чего тут корешок… — И отвела глаза.
В дверь комнаты легонько постучались.
— Петр пришел, — сказала Василиса. — Выйди к нему…
Дуня поспешно прошла в сенцы. Там, сдернув шапку с головы, стоял Петруша. Пришел о сестре наведаться. Глазами спросил у Дуни: как, не лучше?
Дуня ничего не ответила. Петруша понял ее молчание. Тихо сказал:
— Эх, Дуня, Дуня… — пошел к дверям, выходившим наружу. У порога приостановился: — Только нас на свете и оставалось двое — она да я. Всех сыра земля взяла. Теперь за ней черед…
Махнул рукой и вышел. А в сенцы ворвался ветер — буйный, со свистом. Кинул Дуне в лицо пригоршню колючего снега и громко захлопнул за Петрушей дверь.
Наверху заскрипели ступени. Тяжело сходила вниз Матрена Сидоровна. Крикнула, перегнувшись через перила:
— Верка, ты? Воротился Потапыч?
Дуня ответила:
— Петруша приходил. О сестре наведывался.
— Верки-то нет?
— Еще не воротилась.
— Вот я ее, бесстыжую, отдеру, как вернется. Сколько времени, как ушла… Увидит у меня… — сердито забормотала Матрена Сидоровна. Потом — уже другим голосом: — А Фрося как? Не получшело?
— Нет, — ответила Дуня и пошла обратно в горницу. Вошла и услыхала слабый Фросин голос:
— Дунюшка, а Дунюшка, кто приходил?
Дуня кинулась к Фросе. А та смотрит на нее ясными глазами и улыбается.
— Голубушка моя! Фросенька! Полегчало тебе?
— Спой песню, Дунюшка.
— Спою, спою… — Дуня принялась и обнимать и целовать подругу. — Как выздоровеешь, буду тебе петь… Какие попросишь… И свои деревенские. Из Гретри спою. Ах, Фросенька… Я много песен знаю. Не сосчитать сколько! Выздоравливай скорей, моя голубонька…
— Ты сейчас спой, Дунюшка… Прямо сейчас… — А голос уже еле слышный, и глаза потускнели.
— Пой, коли просит… — прошипела Матрена Сидоровна. — Не разумеешь, что ли… — Она следом за Дуней вошла в горницу.
— Про ноченьку… — невнятно попросила Фрося, еще что-то сказала, но понять было трудно.
Дуня обернулась к Матрене Сидоровне, как бы спрашивая у той позволения. Посмотрела на нее и изумилась: вместо злой, сварливой драчуньи увидела она на скамейке старую-престарую бабу: подперев рукой голову, сидела Матрена Сидоровна.
Глотая слезы — лишь бы не разреветься, — Дуня прислонилась спиной к стене. И вот словно из далекого далека принеслись и слога и звуки песни:
Эх ты, ноченька,
Ночка темная,
Ночка темная,
Ночь осенняя…
Не знала Дуня, что поет сейчас она свою последнюю песню. Но и этой последней песни она не допела до конца. Тихий шепот Василисы оборвал ее:
— Не дышит…
Глава десятая
И рассыпалось все прахом
Григории Потапович Басов вернулся в Пухово в тот день, когда хоронили Фросю. На маленьком деревенском погосте долбили мерзлую землю. Все плакали, опуская Фросю в могилу. Все, кроме Петруши. Он словно окаменел, не проронил слезинки. Ветер трепал его светлые волосы, похожие на Фросины. И теперь, когда осунулось его лицо, когда румянец сбежал со щек и синева обвела глаза, он стал очень похож на сестру. А прежде этого как-то не замечали, как и не знали его нежной любви к сестре.
Когда шли обратно с кладбища, Дуня догнала Петрушу, прошептала ему:
— Шапку надень, милый. Простынешь…
Он, как стоял на погосте непокрытым, так и теперь шел, держа шапку в руке. И Дуню он словно бы и не услышал.
Антон Тарасович подошел к нему. Обнял за плечи, сам взял из рук его старый заячий треух, надел на голову.
В это самое время по дороге, которая вела из Москвы, и показался знакомый возок.
— Катит! — взвизгнула Верка, первая заметив возок. — Он! Григорий Потапыч… Лопни мои глаза — он!
Верка обернулась к Матрене Сидоровне, как бы испрашивая ее распоряжения: бежать ей или нет? Теперь-то, когда Григории Потапович воротился, она мигом все разузнает.
Матрена Сидоровна и не заметила Веркиного взгляда. Шла отяжелевшая, мрачная, еле переступала ногами в намокших от сырого снега валенках. Думала какую-то свою невеселую думу. Глаз не подняла, не посмотрела на возок, который медленно тянулся, переваливаясь на ухабах раскисшей дороги.
К вечеру все стало известно. В Пухове на одном конце не успевали слово промолвить, как неведомо какими путями оно перелетало на другой конец. И все поняли и не осудили Потапыча за то, что, везя из Москвы бариново повеление, он останавливался во всех придорожных кабаках и вином заливал свою обиду и боль…
А в бариновом повелении было сказано так: мол, будущая моя супруга не желает, чтобы имелся у меня в Пухове театр, желания ее для меня священны, а посему театру в Пухове более не быть.
Вот и весь сказ.
Белее снега белого стало Дунино лицо, когда она узнала об этом.
Федор Федорович по своему усмотрению распорядился людьми, которые эти годы были у него при театре и в оркестре. Каждого назначил, куда считал нужным, чтобы хозяйству не в урон, а прибыльнее стало.
Григорию Потаповичу Басову велел немедля ехать старостой в одну из своих деревенек, где последнее время сильно его доходы уменьшились. Пусть подтянет там людишек, чтобы исправнее на барина работали.
Певицу Надежду Воробьеву и двух сестриц — Мавру и Алену — продал за большие деньги графу Каменскому, который в Орле преогромнейший театр отстроил и нуждался в хороших дансерках и певице.