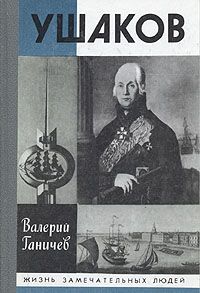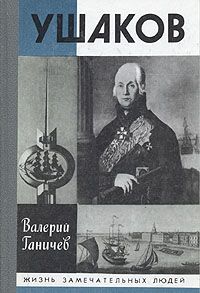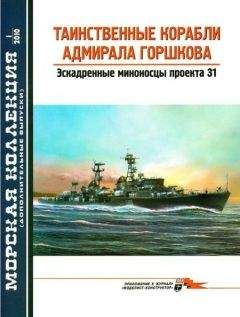Марианна Яхонтова - Корабли идут на бастионы
– Это тоже дело методы, сударь, ибо духовное устройство наше воле нашей покорствует. Человек не только может, но и должен быть велик.
Суворов ударил костяшками пальцев по краю стола и необычно громко и торжественно произнес:
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю…
Вот как говорит о человеке Державин. Люблю сего сочинителя. Почитаю его выше Оссиана. Так ежели человек может повелевать громами, то тем паче укрощать в себе порочника и своевольника. Первое – воля, второе – разум, итог – победа!
Адмирал не менее гостя гордился тем, что человеческий разум может повелевать громами. А насчет воли у него возникли некоторые соображения, особенно после того, как Суворов выхватил у него из рук соусник. Человек этот, как видно, подчинял себе всех, с кем сталкивался, подчинял своим взглядам, своей методе, своим привычкам. Это было некое безапелляционное самоутверждение. Ушаков часто наблюдал эту склонность в людях большого таланта, но подражать им в этом не старался. Правда, он упорно шел к своей цели и там, где этого требовали интересы дела, не отступал ни на шаг. Но в том, что касалось его лично, он не считал возможным всегда настаивать. В детстве часто уступал брату, потом товарищам, которых любил, уступал Лизе и даже своему старому слуге Федору. Он признавал за ними право на равное с ним самоутверждение. А в таких случаях всегда надо было от чего-то отказываться самому.
Суворов между тем насыпал из солонки небольшую кучку соли около своей тарелки. Он не любил, когда соль брали ножом.
– В серебре есть яд, – заметил он адмиралу, метнув взглядом на серебряный нож. И снова начал читать по памяти оду Державина «Бог».
– Мароны и Гомеры, – бормотал он быстро, – Мароны и Гомеры умолкнут пред сим гением.
– Он теперь в Петербурге, – наконец нашел адмирал минуту заговорить о том, что его особенно интересовало – Вы ведь, кажется, были там проездом из Финляндии?
Ушаков был доволен, что так удачно свел разговор с Державина на Петербург.
– Был, Федор Федорович, был, – отвечал торопливо Суворов, явно желая отделаться от вопроса. Он хотел говорить о своем. – Если б я не был полководцем, то был бы сочинителем. Я ведь пиитическому вдохновению не раз предавался. Два разговора в царстве мертвых написал и стихами не раз грешил. Разговоры сии даже читал публично в Обществе любителей российской словесности. Сумароков с Херасковым много примечаний делали. Ежели фортификация всякий вкус к искусствам не отобьет, я прочту вам сии творения.
И он посмотрел на адмирала с хитроватой усмешкой, словно предлагал ему принять участие в каком-то темном деле, которым никак нельзя было заниматься при свете дня. Вряд ли Ушаков сумел бы объяснить себе, почему какая-то неясная обида залегла в нем после этого разговора о пиитических опытах. Ведь Суворов ничего не знал о делах адмирала и никак не мог подозревать, почему ему так хочется говорить о Петербурге.
Между тем Суворов быстро вытер губы и встал. Найдя глазами образ, он начал читать молитву. Читал он не так, как читают обычно люди, а то частил, то растягивал слова, как делают это дьячки в церкви. Чего уже адмирал никак не ожидал при виде его тщедушной фигуры, это того густого баса, каким он закончил молитву.
– Два часа сна после обеда в летах наших уже необходимы, батюшка Федор Федорович, – почти без паузы проговорил Суворов, свободно приравнивая к себе адмирала, который был лет на пятнадцать его моложе.
19
Адмиралу вскоре пришлось убедиться, что воля Суворова была весьма своеобразна. Может быть, к самоутверждению гения примешивалась некоторая доля стариковской нетерпимости. Проверив на себе выработанный опытом образ жизни, Суворов был совершенно убежден, что обладает наилучшим рецептом счастья. Он считал адмирала своим другом, испытывал к нему все возрастающее расположение и желал ему наивысшего добра. А потому вся жизнь адмиральского дома была переделана в одни сутки.
Ушакову предлагалось уже со следующего утра начать приобщение к новому распорядку, который, по обещанию Суворова, наверное удлинил бы его век вдвое. Обычно Ушаков вставал в шесть часов, Суворов начинал день с первыми петухами.
Еще было совсем темно, когда адмирал вошел в его комнату.
Суворов спал при свечах, и восковые огарки догорали в двух подсвечниках. У стены была навалена целая копна сена, покрытая простыней. Это было его привычное ложе, где бы он ни ночевал: в крестьянской избе или во дворце.
Суворов уже проснулся и в одних исподних стоял перед Прошкой, который должен был надеть на него рубашку. Наполовину обнаженный, Суворов напоминал подростка. В комнате было прохладно, и белые шрамы ранений резко выступали на покрасневшей коже. Худощавый, но широкоплечий, адмирал рядом с Суворовым выглядел Ахиллом.
– Приступим, батюшка, сейчас приступим! – кричал Суворов, продевая костлявые руки в рукава рубашки. Он помотал шеей, чтоб ворот лег как можно свободнее, и объяснил адмиралу, что ничто так не укрепляет тело, как хороший бег на свежем воздухе.
Каждое утро Суворов делал это упражнение в комнате, или, когда это возможно, в саду, в одном белье и сапогах, чтоб все тело дышало. Для того чтоб уплотнить время, на бегу можно заучивать слова какого-нибудь языка, который знать полезно.
– Отменное производит действие сие упражнение, – говорил Суворов. – Очищает кровь и приводит ум в возбуждение.
Ушаков не имел ничего против возбуждения ума, но одна мысль, что для этого надо бегать неодетым, приводила его в смущение. Час, правда, был настолько ранний, что вряд ли их кто-нибудь мог увидеть. Однако адмирал чувствовал, что выполнить желание своего гостя он не в состоянии. Пусть лучше жизнь, вместо того чтоб увеличиваться, сократится вдвое. Если среди редких тополей сада его не увидят посторонние, то свои все-таки будут глядеть во все глаза, и завтра о его странном беге узнает весь город.
– Я взял за обычай заменять это действие купаньем в море… во всякую погоду, – добавил поспешно адмирал.
Суворов стал доказывать, что бег во всех отношениях полезнее купанья.
– Хоть казните, Александр Васильевич, не могу, – возразил адмирал. – Свобода человека, который, как вы, отмечен гением, весьма отлична от свободы таких людей, как я. Да и подчиненные мои не привыкли…
В самом деле, если б люди увидели бегающего в саду Суворова, то они сочли бы это причудой великого человека. Этой причуде только бы улыбнулись и любовно ее извинили. Великому человеку извинительно все, даже если он станет на голову. Всякий решит, что и на голову он становится не иначе, как с особо глубоким смыслом. Но адмирал, несмотря на свои высокомерные мысли, не считал себя гением, а потому и не осмеливался на слишком ошеломляющую оригинальность. Суворов смотрел на него сбоку, как бы взвешивая его аргументы. Напоминание о том, что подчиненные адмирала не привыкли, более всего его убедило.
– Хорошо, сударь, – сказал он. – Пожалуй, я не буду спорить за вас с Нептуном.
Когда адмирал торопливо шел к морю, маленькая белая фигурка Суворова уже носилась среди сонных тополей, которые тихо покачивались, стряхивая ночную дрему.
В этот день Ушаков был обязан пить чай вместо привычного кофе. Чай Суворов привез с собой. Он выписывал его из Москвы через знатоков, пил со сливками и без хлеба.
Обед, приготовленный Матькой, превзошел своей умеренностью даже спартанские привычки адмирала. Неумолимо наблюдая за режимом, Суворов уже в ближайшие дни говорил Ушакову:
– Не находите ли вы, Федор Федорович, что вам легко и здорово?
Что было очень легко, с этим нельзя было не согласиться. Вероятно, это было и очень здорово для Суворова, часто болевшего желудком. Но крепкий и здоровый адмирал, весь день работавший в порту, вставал из-за стола голодный как волк. Он решил, что если и далее надзор за ним не ослабнет, то придется ему очень туго.
По вечерам Суворов читал Ушакову Оссиана, перевод которого был посвящен ему поэтом Ермилом Костровым.
Адмирал проявлял больше любознательности, чем восторга, и Суворов замечал с нетерпением:
– Постарайтесь вникнуть в сие творение, сударь. Вы обретете наслаждение величайшее.
И он самым густым басом повторял адмиралу только что прочитанный отрывок о борьбе Сварана с Фингалом:
– «Земля дремучей рощи, стеная, страдала под усилиями стоп наших. Камни упадали, отторгаясь от своего основания, источники, переменяя свое течение, убегали с шумом далеко от сего ужасного противоборствия. Три дни равно возобновляли мы сражение, наши воины стояли вдали неподвижны и трепещущи».
– Вникаю, Александр Васильевич, – покорно отвечал адмирал. – Но в тех сражениях, коих я был участником, природа не проявляла сочувствия к делам нашим. Ни камни сами собою не отторгались с мест своих, тем паче источники не обращались вспять.
– Язык поэзии, батюшка, есть всегда язык преувеличения. Ничего вы в этом деле не разумеете.