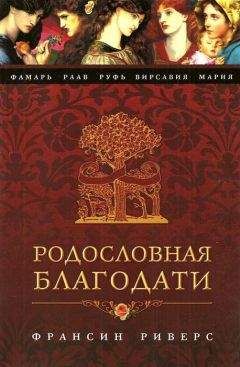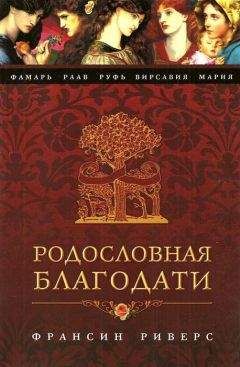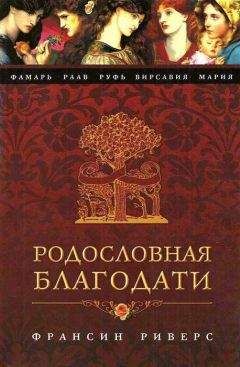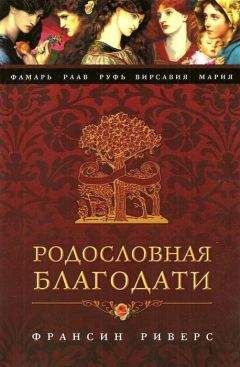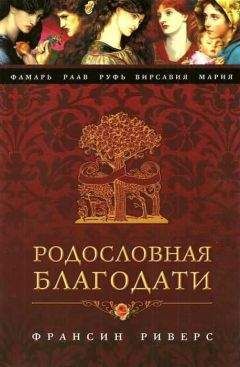Режин Дефорж - Смех дьявола
— Грязный бош! Не трогай меня.
Немец побледнел и отдернул руку. Подскочил ординарец.
— Ты оскорбляешь капитана…
— Оставьте, Карл, это естественно, что французы не любят нас. Извините меня, мадам, я позволил себе расчувствоваться. На короткое мгновение я забыл эту войну, причинившую столько зла двум нашим странам. Скоро все это кончится. Прощайте, мадам.
Он щелкнул каблуками и широким шагом направился к отелю «Лютеция», над которой развевался флаг со свастикой.
14
Многочисленная толпа теснилась в это послеполуденное время 15 августа под деревьями Люксембургского сада и вокруг бассейна, на котором качались парусники, выдаваемые напрокат. Зеваки проходили мимо Сената, не глядя на него и будто не замечая часовых за мешками с песком и заграждения из колючей проволоки. Матери с детьми ждали окончания спектакля марионеток, чтобы войти в свою очередь. Карусель была взята приступом, так же как и тележки, запряженные осликами и пони. Казалось, что это июльское воскресенье в разгар учебного года, столько тут было детей. Большинство из них было лишено каникул из-за забастовки железнодорожников и особенно из-за военных действий, приближающихся к столице. Война была излюбленной игрой десяти-, двенадцатилетних, но все хотели быть французами, никто не желал быть немцем. Вожакам детских стай приходилось бросать жребий. И «немцы» сражались с французами без всякого воодушевления.
После трех катаний на карусели Шарль, не сумев поймать на свою палку кольцо, захотел мороженого. У входа в сад с бульвара Сен-Мишель мороженщик с великолепной тележки в виде ярко раскрашенной кареты продавал земляничное мороженое. Леа купила два. В музыкальной беседке оркестр в зеленой униформе исполнял вальсы Штрауса. На некоторых деревьях были наклеены черно-желтые объявления, подписанные новым военным губернатором Парижа, генералом фон Хольтицем, призывающие парижан к спокойствию и угрожающие, что «самые суровые и жестокие» репрессии будут ответом в случае беспорядков, саботажа или покушений.
Однако большинство читающих улыбалось: в полдень радио объявило о высадке союзников в Провансе. Некоторые уверяли, что американцы были у ворот Парижа, потому что они слышали орудийные выстрелы. Многие присутствовали на богослужении в память Людовика XIII в соборе Парижской богоматери, несмотря на запрещение генерала фон Хольтица.
Пренебрегая запретом, множество парижан откликнулось на призыв епископа. Все желающие не уместились в помещении собора и запрудили половину площади, толпясь перед центральным порталом, где на эстраде происходила та же церемония, что и внутри храма. Во время перехода процессии из одного бокового портала в другой, толпа с энтузиазмом присоединялась к молитвам, возносимым с эстрады миссионером: «Святая Жанна д'Арк, освободительница Родины, молитесь за нас… Святая Женевьева, покровительница Парижа, молитесь за нас… Святая Мария, матерь Божья, покровительница Франции, молитесь за нас…» На несколько секунд дирижер прервался, чтобы послушать, что говорит ему священник. Те, кто был близко к эстраде, видели, как лицо его побелело. Многие опустились на колени, когда он дрогнувшим голосом произнес: «Нам сообщают, что союзнические силы высадились в Провансе. Помолимся, мои дорогие братья, чтобы Марсель и Тулон были спасены от разрушения: Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое…» Волнение достигло предела, когда кардинал Сюар произнес импровизированную речь, в которой упомянул о «последнем предстоящем испытании». Немецкие солдаты, находящиеся на площади, стояли, не шелохнувшись. Любопытная подробность: ни одного полицейского вокруг. С этого утра парижская полиция начала забастовку в знак протеста против разоружения коллег из комиссариатов Аньера и Сен-Дени.
Назавтра после Успения газета «Я повсюду», которая была запрещена, вышла снова и известила о появлении следующего номера в пятницу, 25 августа. Грузовики, набитые полицейскими, начали покидать столицу, двигаясь в восточном направлении. На авеню Оперы, на Елисейских полях, бульваре Сен-Мишель под оркестр маршировали немецкие солдаты. «Это начало конца», — смеялись в толпе.
17 августа парижане могли наблюдать поток отбывавших грузовиков, санитарных машин, автомобилей, до отказа заполненных немцами с потухшим взглядом. Потом потянулись самые разнородные виды транспорта: тележки, конные повозки, трехколесные грузовые велосипеды, даже тачки, переполненные добычей: радиоприемниками, пишущими машинками, картинами, креслами, кроватями, сундуками, чемоданами и завершающими зрелище неизбежными матрасами, напоминавшими парижанам их собственный исход по дорогам Франции.
Ах, какое удовольствие видеть, как тащатся остатки непобедимой армии! Куда делись они, великолепные железные завоеватели июня 1940 года?.. Что сталось с их безупречными мундирами?.. Изношены за четыре года войны в полях России? В пустынях Африки? В креслах гостиниц «Мёрис», «Крийон» или «Интерконтиненталь»?.. Люди присаживались на стульчики в садах Елисейских полей, чтобы, не уставая, наблюдать их движение. Соревновались, считая машины, грузовики. Улыбки не гасли, когда мимо проходили очень молодые или очень пожилые солдаты, неуклюжие в своих слишком широких либо чересчур узких гимнастерках, плохо выбритые, неопрятные, волочащие свое оружие или с трудом тащащие провизию, которую иные без колебаний продавали населению.
Лаура и Леа ехали на велосипедах по набережной. В воздухе ощущалась приподнятость, несмотря на напряжение, царившее в некоторых кварталах, шум моторов, крики, дым от документов гестапо и администрации, сжигаемых прямо на уличных мостовых, нервозность беглецов, затемнение в 9 часов вечера.
Рыболовы с удочками и купальщики виднелись, как всегда, на берегах Сены. В ярком летнем свете легко покачивались корпуса яхт. Весь город был в ожидании. Сестрам пришлось сойти с велосипедов, чтобы пересечь мост Руаяль, перегороженный ежами с колючей проволокой.
На Университетской улице Шарль с нетерпением ждал Леа, чтобы передать ей рисунок, над которым трудился с утра. Эстелла жаловалась на свои бедные ноги с венами, вздувшимися «из-за очередей». Лиза была очень возбуждена: в полдень она слышала по английскому радио, что американцы были в Рамбуйе. Альбертина казалась озабоченной.
Благодаря «запасу» Лауры ужин, состоявший из сардин в масле и настоящего сдобного хлеба, показался пиршеством. В половине одиннадцатого вечера появилось до полуночи электричество, принеся Лизе разочарование: американцы были не в Рамбуйе, а в Шартре и Дрё.
Незадолго до комендантского часа эсэсовцы открыли огонь из автоматов по зевакам, смотревшим, как немецкие чиновники вывозили документы из отеля «Трианон» на улице Вожирар. На площади Сорбонны и бульваре Сен-Мишель многие люди также были убиты или ранены.
Сон парижан был нарушен взрывами военных складов, которые уничтожались оккупантами.
— Сегодня утром газет нет, — сказал Леа киоскер на бульваре Сен-Жермен. — У коллабо дела плохи. Посмотрите на этого типа в очках. Это Робер Бразийяк, он идет пить свой кофе во «Флору». Он никогда не выглядел хорошо, но уже два дня у него явно больной вид. На его месте я бы уехал вместе со своими дружками-доносчиками.
Значит, это был тот самый Бразийяк, о котором с восхищением говорил ей Рафаэль Маль?
У него был вид хворого мальчишки.
Леа уселась на террасе недалеко от него и заказала кофе. Пожилой официант в длинном белом переднике ответил, что не может предложить ей ничего теплого, потому что нет газа. Она согласилась на дрянной «дьяболо» с мятой…
За соседним столиком мужчина лет тридцати, высокий брюнет в больших очках, писал в тетради мелким аккуратным почерком. Молодой человек, хрупкий и светловолосый, сел рядом с ним.
— Привет, Клод. Уже за работой?
— Здравствуй. Что нового?
— Вчера в квартале было немало инцидентов. Немцы стреляли на улице Бюси и на бульваре Сен-Жермен.
— Есть убитые?
— Да, много. Как чувствует себя твой отец?
— Хорошо. Он в Вемаре, завтра я еду увидеться с ним.
Глухие раскаты помешали Леа продолжать следить за их разговором.
— Это военные склады, — сказал один из них.
— Они подожгли склады за Эйфелевой башней и несколько кафе. Значит, скоро конец. Коллабо бегут, как крысы. Мы не услышим больше голоса Жана Эроль-Паки, «радиожурнал» умер. Люшеры, рабате, бюкары, кусто, боннеры, иначе гестаписты, взяли курс на Германию. Только и остался, и я очень хотел бы знать, почему, — сказал Юлондин, указывая на Бразийяка.
— Может быть, из какого-то представления о чести. Я не могу больше ненавидеть его. Мне его жаль.
— Почему ты его ненавидишь?
— О, это старая история с грязной статьей о моем отце, появившейся в 1937 году.