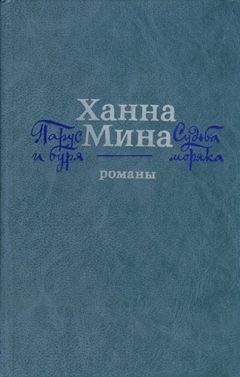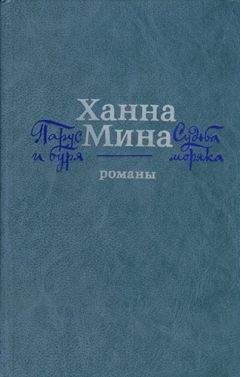Евгений Сухов - Кандалы для лиходея
Ротмистр Первого лейб-драгунского Московского Его Величества полка взял Дуняшу тут же, в беседке, прямо на скамейке. Она лишь вскрикнула, когда он резким толчком вошел в нее, а потом лишь шумно дышала и смотрела на князя широко раскрытыми глазами. И зрачки у нее были темны и бездонны, как было бездонным и небо над головой.
Через минуту после того, как он бурно излился, сознание воротилось к нему. Дуняша лежала на скамейке, свесив одну ногу. Глаза ее были наполовину прикрыты. Казалось, она дремлет либо чувства покинули ее…
– Дуняша, – тихо позвал князь.
Она не ответила.
– Дуняша!
Девушка молча посмотрела на него.
– Мне… пора. Спасибо тебе… – произнес ротмистр и, немного помявшись, покинул беседку.
Дуняша еще какое-то время лежала, наблюдая за мигающей звездой. Потом поднялась, привела себя в порядок и вышла. На лице ее были написаны изумление и испуг…
Удивительное дело, но на селе ворота ее дома не намазали дегтем, мужики не щурились и не приставали со скабрезными разговорами, бабы не судачили за ее спиной и не плевали во след, а товарки не отвернулись и даже жалели Дуняшу, втайне ей завидуя: как же, понесла от князя! Как это узнали на селе – про то один Бог ведает, однако ж всем и каждому было известно: Дуняшу обрюхатил князь. Имени-фамилии его не знали, но что это был настоящий князь – ведали.
Через положенный срок родила Дуняша девочку, здоровенькую, крикливую. Дуня назвала ее Маней, так и пошло по селу: Дуняша да Маняша…
Кто ее надоумил следующим летом, когда барин в имение приехал вакацию свою проводить, пойти к нему и все рассказать – тайна за семью печатями. Говаривали на селе, что к этому подбила ее близкая подруга – товарка Глафира, девка бойкая и языкатая. Она, мол, ей и сказала: ступай, Дуняша, к барину и скажи, что от князя у тебя ребеночек народился. Пусть, дескать, отец ребенка вспомоществование какое окажет разовое, а лучше постоянное, поскольку, чай, не чужая ему эта девочка, а дочка!
Дуняша поначалу отнекивалась, робела, да ведь вода и камень точит. Мысли Глафиры касательно разговора с барином понемногу стали как бы ее мыслями. А и то: коли имел князюшка удовольствие ребеночка сделать, имей и обязанности по нему нести. Как говорится, любишь кататься – люби и саночки возить…
Пошла Дуняша к Михаилу Михайловичу. Поклонилась в ножки, да и рассказала ему все.
– Побожись, – велел ей граф, не очень поначалу поверивший в рассказ Дуняши.
Дуняша побожилась.
– Ступай, – нахмурившись, ответил Михаил Михайлович и вечером того же дня отписал послание своему товарищу и близкому другу, ротмистру князю Ружинскому-Туровскому, про дочь. Но в ответ на отправленное письмо пришел графу Виельгорскому официальный ответ от самого командующего русскими войсками в Крыму светлейшего князя адмирала Александра Сергеевича Меншикова. Его светлейшее сиятельство писал, что ротмистр князь Роман Станиславович Ружинский-Туровский пал смертию храбрых в сражении на Чингильском перевале против отряда турок Мустафы-Зариф-паши перед самым взятием нашими войсками крепости Баязета.
Что делать? В память о погибшем товарище Михаил Михайлович положил Дуняше содержание на дочку в размере пятидесяти рублей в месяц, а саму Дуняшу от всяческих работ освободил.
– Воспитывай свою дочь достойно памяти ее геройского отца, – наставительно произнес граф в последнее посещение ею барина и менее чем через год отошел во цвете лет в мир иной. Сказывали, что схватил он в один из приездов в Санкт-Петербург какую-то скоротечную чахотку, которая иссушила его и свела в могилу в столь короткий срок. Но деньги от него поступали вплоть до достижения Маняшей полного совершеннолетия. Привозил их в село молчаливый человек в пенсне, похожий на конторского служащего. Он называл себя «нотариус» и исправно вручал Дуняше конверт с пятьюдесятью рублями ежемесячно. Затем откланивался и уезжал. Однажды Дуняша спросила его, как, мол, так получается, что человек умер, а деньги от него исправно приходят. На что нотариус ответил коротко и исчерпывающе:
– Такова была воля покойного.
Так что Маняша жила вполне сносно, даже барыней, и ни в чем не знала нужды. Потому как пятьдесят рублей для села – деньги большие.
Не получилось Дуняше воспитать Маняшу достойно погибшего в Крымскую кампанию героя, как того хотел граф Михаил Михайлович Виельгорский. Замуж Дуняшу на селе никто не взял, и выросла Маняша капризной и своевольной, как часто бывает, когда у матери один ребенок, отчима так и не случилось, а стало быть, мужской руки и воли, которая могла бы укоротить ее характер, она не ведала.
Маняша прекрасно знала, чья она дочь, и когда ее в шутку или даже со злым умыслом звали княжной – не обижалась. Ведь она и вправду была княжной, дочерью князя Рюриковича.
А вот судьба у Маняши не складывалась. Когда было ей еще семнадцать годов, сватался к ней один парень из соседнего села, Никодим Коновалов. Хороший парень, работящий, неглупый. Полюбилась Маняша ему, когда они с братом Евдокимом в Павловское приезжали на базаре лошадей торговать. И все. С тех пор и думать более ни о чем не мог, кроме нее. А месяцев через восемь заслал к Маняше сватов. Дуня-то приняла их положенным обычаем, а вот Маняша высмеяла их в лицо и ответила отказом. Потом горделиво задрав подбородок, высказала матери свое неудовольствие, которое сводилось к следующему: за деревенского она никогда не пойдет, поскольку прозябать в Павловском всю жизнь не намерена. И место ее, дескать, в городе. И не в уездном, а по меньшей мере, губернском.
Ее и правда увез в Рязань один советник коммерции, приезжавший в Павловское торговать зерно. Фамилия у купца была Крашенинников, и был он, сказывают, в Рязани первой гильдии купцом и мильонщиком, владеющим тремя фабриками, мыловаренным и водочным заводами, шестью мельницами и двумя двухэтажными каменными домами на лучших улицах Рязани. А через полтора года она вернулась в село, обозленная на весь свет и с грудной девочкой на руках, которую звали Настасья. Девочку она сбросила Дуняше, а сама стала гулять напропалую, совращая холостых мужиков и не брезгуя женатыми. Не единожды замужние бабы, мужья которых имели дело с Маняшей, били ее смертным боем, но всякий раз она, оклемавшись, принималась за прежнее. Сладу с ней не было никакого. Скоро она сделалась достопримечательностью села, равно как и дурачок Епифаний, во все дни блуждающий, как сомнамбула, по селу и пускающий из носа пузыри. А и то, в каждом селе есть и свой дурачок, и своя распутная баба.
Сильно пить Маняша стала после того, как однажды на ярмарке повстречала Никодима Коновалова. Тот вначале не узнал Маняшу, а потом посмотрел так презрительно на подвыпившую женщину, хохотавшую в окружении мужиков, что та, заметив этот его взгляд, осеклась, посмурнела и пропала из вида. То ли стыдно ей стало за себя перед Никодимом, то ли не хотела она видеть человека, которому когда-то отказала в любви, но видели ее в тот день в питейном доме пившей в одиночестве горькую.
Вот так и пошло-поехало. Водочка – это такой продукт, что, пообвыкнув к ней, долго без нее уже не можешь: и уныние приходит, и тоска-грусть мучительно гложет. А глотнув горького напитка, вроде бы и ничего, жить можно. И трава зеленее, и небо с овчинку уже не кажется…
Лето прошло, зима, еще одно лето. Как-то осенью Маняша допилась до того, что у нее остановилось сердце. Послали за лекарем. Тот примчался в две минуты, суетился, поднимал Маняше веки и смотрел в глаза, беспрестанно щупал пульс. А потом, словно с досады, столь сильно ударил ее промеж грудей, что такой удар и крепкого мужика мог с ног свалить. Маняша охнула, задышала, открыла глаза и покрыла лекаря отборным матом. Потом встала и пошла в кабак похмеляться.
Кончила она плохо, как и следовало ожидать. На следующую зиму замерзла до смерти в какой-то канаве близ большака. Так и нашли ее, скрюченную и заледенелую. И осталась Настасья сиротой. Конечно, где-то в Рязани проживал ее отец, первой гильдии купец и мильонщик Крашенинников, но, видно, дитя ему совсем не нужное было, иначе бы давно за ним приехал. Или еще раньше, когда Маняша уходить от него задумала, оставил бы дочку при себе. Поэтому жить стала Настасья при бабке Дуняше, что, собственно, и всегда было.
Настасья не пошла в мать. Бойкой не была, в заводилах ее никогда не видывали, однако чувствовалось в ней нечто такое, что лучше было бы ее не трогать. Нет, она не обижалась. Просто могла посмотреть своими словно не отошедшими от смеха глазами так, что оскорблять ее или говорить какие-либо гадости уже не хотелось. Гордость это была или нечто иное, чему и названия нет – трудно определить, да и неважно.
О своем происхождении, что она внучка князя Рюриковича, Настасья, конечно, ведала. Опять же от бабки. Мать, когда еще была жива, об этом ничего не говорила, а если и говорила, то в пьяном угаре, и Настя об этом ничего не помнила, да и понять Маняшу, что она там лопочет в хмельном угаре, было весьма затруднительно.