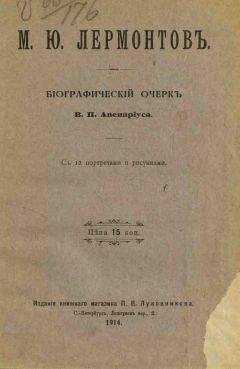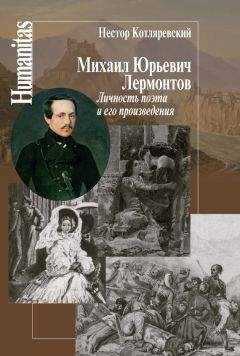Исай Калашников - Последнее отступление
— Не подковыривай, бросай это дело. Скажи лучше, семена-то есть?
— Семян вроде хватит. А вот лошадку вторую надо бы. Нынче хочу побольше посеять.
— Потом продавать?
— И продавать, и кормиться.
— А у некоторых семян вовсе нету. И пахать им не на чем, — с тоской проговорил Клим. — Ты метишь в богатенькие вылезти, а кое-кто без хлеба останется.
— Не я же виноват.
— Я не говорю, что ты. Виноваты царь, война, временные, кол им в горло! Новая власть должна всех накормить. И накормит. Но помощь ей требуется, понимаешь?
— Сызнова агитацию наводить начинаешь? — перебил Клима Захар.
— Какая, к чертовой бабушке, атитация! Новой власти опора нужна. Мы воевали, видели жизнь и мировой пожар революции…
— Брось, Клим. Надоело. Долбишь одно и то же, как дятел дерево.
Лицо у Клима передернулось, вспыхнуло. Он глубоко и быстро затянулся табаком, закашлялся. Кашлял долго, с надрывом. Вытер слезы, наклонился и тихо, чтобы слышал только Захар, прошептал:
— Ты-то и есть дерево. С гнилой сердцевиной. Смотри, подует ветер — не устоишь, свалишься и будешь лежать прелой колодой.
Захар так же тихо ответил:
— Поди-ка ты к кобыле под хвост, обучатель. Самого учить надо.
— Уж не у тебя ли мне уму-разуму набираться?
— Всяк Семен про себя умен.
— Во-во! — подхватил Клим. — Ты такой. Пока не возьмут за шиворот, сопишь в две дырочки, радуешься, что стороной обходят. Но трясти зачнут — взвоешь, к нам нам же прибежишь защиты просить.
— Не прибегу, не дождешься.
Мужики друг от друга отвернулись и замолчали.
— …Себе забирает. Говорит, русская власть приказала. Совсем худо жить стало, — услышал Захар голос Базара.
Павел Сидорович молчал. Его лоб прорезала глубокая складка, брови насупились.
— Подумать только, что творят! — Павел Сидорович поднялся. — Надо бы раньше приехать, Базар. Слышь, Клим, какие дела! Еши Дылыков и Цыдып почти со всех пастухов налог собрали. Будто бы Советская власть им поручила собирать. Ну и ловкачи!
— Так я туда поеду. Живо наведу порядок, покажу им, какая это есть, наша власть! — зло сказал Клим. — Вот подлецы. Заарестовать их надо!
— Арестовать, Клим, проще всего. Но этим дело вряд ли исправишь. Нужно создать там Совет, а это посложнее. Тебе одному с таким делом не справиться. Да не обижайся ты! Туда нужен человек, хорошо знающий бурятский язык, их обычаи.
— Где же возьмешь шибко знающего человека? — возразил Клим. — Пока мы тут шель-шевель, Еши таких делов наворочает, что потом не расхлебаешь.
— Знающий человек у нас есть. Попросим Парамона. Он скоро сюда приедет и все сделает, как надо.
— Разве Парамон знает по-бурятски? — удивился Клим.
— Свободно разговаривает. Ну вот что, Базар, поезжай-ка домой. Скажи улусникам, чтобы они ничего не давали Еши, а через несколько дней мы все уладим.
Когда Базар и Захар уходили от Павла Сидоровича, Базар сказал, ударив себя плетью по голенищу унта:
— Я так и думал, что Советская власть хорошая.
— Хорошая-то хорошая, — усмехнулся Захар. — А за так и она поить и кормить не будет. Клим вот возится с ней, как кошка с салом, а ребятишки его голопузыми ходят. Ты таким не будь, упаси тебя бог. Заводи-ка себе скота поболе. Ты парень молодой, сметливый, скоро можешь в люди выйти. А богатому не каждый решится набить морду-то. Связываться же с властями не мужицкое дело.
— Морду бить мне и так никто не посмеет. Пусть только кто полезет.
3Васька Баргут проснулся, как всегда, рано. Умылся, затопил печь и вышел на скотный двор.
Светало. В деревне перекликались петухи, скрипели и хлопали ворота. Под ногами похрустывал ледок, воздух был пропитан какой-то особой, предвесенней свежестью.
Баргут открыл двери сеновала. В нос ударил терпкий запах гнилого сена. Плохое сено осталось — одонья, прелые, слежавшиеся пласты. Васька быстро набросал корм коровам и пошел в конюшню. Увидев его, лошади повернули головы, рыжий жеребчик тихо заржал. Баргут погладил его по спине.
— Бедненький мой! Не скусно? Что же я сделаю? Доброго сена нету, хозяин не дает, к весне бережет.
Васька печально вздохнул и направился к выходу. Во дворе остановился, прислушался. Хозяева, видимо, спали… Он воровато оглянулся и побежал к амбару. Из щели в углу достал большой ржавый согнутый гвоздь и вставил его в скважину замка. Запоры у Савостьянова амбара были прочные, железным ломом не откроешь. Но Баргут раз, другой повернул в замке гвоздь — и двери раскрылись.
Васька шмыгнул в амбар, вскоре появился с мешком овса на плечах. Так же быстро закрыв замок, унес мешок в конюшню, высыпал в кормушки лошадям. Узнает про это Савостьян — беды не миновать. Своеволья он не потерпит…
Вернувшись в зимовье, Баргут подбросил в печку дров, стал чистить картошку. Савостьян много раз звал его питаться за общий стол, но Васька отказывался — в зимовье ему было вольготнее.
За дощатой перегородкой зимовья сопели и постукивали копытами телята. Потрескивали в печке дрова. Баргут вымыл очищенную картошку и поставил на печь.
Под окном тяжело протопали, и в зимовье вошел Савостьян.
— Кормил скотину, Васюха?
— Кормил. Не хочут кони жрать гниль.
Савостьян сел на лавку у стола, задумался.
Васька снял с печки чугунок с картошкой, поставил на стол, нарезал большими ломтями хлеб. Был великий пост: мяса, молока, рыбы есть не полагалось. Васька насыпал в солонку толченого конопляного семени и, макая в него картошины, стал есть. Савостьян покосился на него, спросил:
— Скусно?
— Угу, — промычал Васька. — Садись, ешь.
— Чай есть у тебя?
— Есть.
— Наливай. — Савостьян сбросил с себя зипун и потянулся к чугунку с картошкой. — Ты бы ее в золе испек — объеденье! Корочка похрустывает… Я, бывало, в ночное ездил, всегда с собой сумку бульбы возил. Родитель мой человек не шибко богатый был. Это я поднялся. Этими вот руками все сделал и добыл. — Савостьян положил руку на стол ладонью вверх. Она была бугристой от желтоватых мозолей. — А теперь этот кривоглазый сатана, Климка, ходит по деревне и обзывает меня грабителем, шкуродером. Ух и ненавижу подлую морду… А все от учителя идет, Васюха. Припугнуть бы, чтобы из своей избенки не вылазил, а кто решится? Трусоватым стал народишко.
Поев, Савостьян поднялся, накинул зипун на плечи:
— А за сеном ты к Еши Дылыкову сбегай. Может, даст в долг воз-другой.
— Когда ехать?
— Сегодня поезжай. Сначала вершно сбегай, договорись.
Сразу после завтрака Васька оседлал рыжего жеребчика и поскакал в улус.
За деревней, где глубокие колеи протянулись через луг, Баргут натянул поводья и перешел на шаг. Впереди двигалась телега с высокими стойками. На ней сидела девушка и что-то пела. Слов Баргут не разобрал, но по голосу узнал Дору Безбородову, тронул лошадь и быстро нагнал телегу.
Дора оглянулась, перестала петь. На ее лице, разрумяненном ветром, вспыхнула радостная улыбка.
— Далеко ли, Баргутик?
— До улуса, — Васька поехал рядом с телегой. Дора смотрела на него и чему-то улыбалась. От ее улыбки Баргуту становилось неловко: молчит и посмеивается. Уж спросила бы о чем-нибудь…
— А ты куда едешь, Дора? — нашелся наконец Баргут. Сказал это с трудом, словно перевернул камень, вросший в землю.
— Я-то? За соломой еду на поля. А люди, значит, брехали… — Дора снова умолкла и улыбнулась.
Васька спросил:
— Чего брехали?
— Девки говорили, будто ты можешь за целый день слова не сказать. Я даже загадала насчет кое-чего, заговорит, думаю, али нет.
— О чем загадала?
— Ну, уж не тебе про это знать, — Дора лукаво повела бровью. Баргут повернулся в седле, подобрал поводья. Дора увидела это, и улыбка на ее лице погасла.
— И впрямь ты нелюдимка, Баргут. Не брехали, выходит, девки.
— Я же тороплюсь, — пробурчал Баргут и снова повесил поводья на луку седла.
Степь пестрела проталинами, а на косогорах, где солнышко жарче, снега уже не осталось совсем.
— Ты одна-то наложишь соломы? — спросил Баргут.
— Да уж как-нибудь, не впервые, слава богу, не привыкать…
— Я тебе помогу, ладно?
— Ну-у? — насмешливо протянула Дора. — Ты же торопишься.
— Успею.
Баргут покачивался в седле, перебирал пальцами гриву жеребчика, посматривал на Дору. Впервые приметил, что брови у нее черные и, наверное, мягкие, как беличий мех.
У расчатого зарода он спешился, привязал своего жеребчика к оглобле и принялся за работу. Дело для него было привычное. Огромные навильники один за другим ложились на воз. Дора едва успевала укладывать.
Баргут поднял последний навильник, подал Доре бастрик с наброшенной на конец веревкой. Стал затягивать. Веревка тихо поскрипывала и вдруг, сухо треснув, лопнула. Дора свалилась с воза прямо на Баргута. Он подхватил ее, придержал. На своем лице ощутил ее дыхание, а под руками частые, испуганные удары сердца. Чувство сладкого оцепенения и неловкости захлестнуло Баргута.