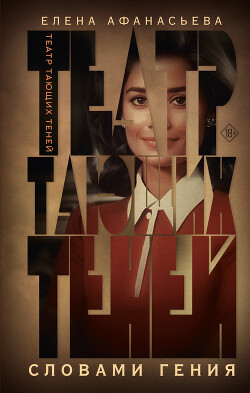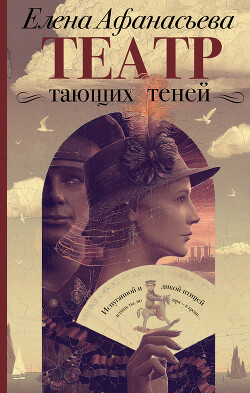Театр тающих теней. Под знаком волка - Афанасьева Елена
А пока… Пока она в аду. Хуже которого не бывает.
Или бывает.
Женя говорит, что Даля славится умением сделать еще хуже, когда кажется, хуже уже не бывает. Сделать ад еще более адовым.
Славится. Притягивает к себе это «хуже худшего».
Оленев не просто поверил своему окружению, столько лет мечтавшему ее сожрать, а немедленно ее уволил, не оставив шанса на исправление ситуации. Фабио Жардин не просто обозвал ее коллекцию дерьмом, ломаного гроша не стоящим, и не просто затеял процедуру «изъятия подделок из мирового художественного фонда» — впереди показательное уничтожение «подделок»!
Всё, на что главный эксперт Мирового фонда поставил клеймо «подделка», подлежит уничтожению. Всё, что она за эти десять лет нашла, попросту говоря, сожгут или отправят в шрёдер. Такова политика Мирового фонда — уничтожать, дабы подделки дальше не портили светлый и чистый мир искусства. И дабы другим неповадно было.
Хуже так хуже! Чтобы ей стало еще хуже, чем «хуже не бывает».
Вот и теперь она, Даля, вместо того, чтобы искать аргументы, еще не испробованные научные методы анализа, привлекать мировые авторитеты, которые круче Фабио Жардина и которым удастся убедить Мировой фонд в подлинности собранной ею коллекции, вместо того, чтобы биться за картины гениев, которым грозит смерть, как за собственных детей, хлопает дверью.
Оленев верит только Мировому фонду. И тем, кто «всё время говорит».
Мировой фонд верит только Фабио Жардину.
Фабио Жардин заявляет, что верит только себе и никому более. «Разве что сами гении поднимутся из могил и подтвердят подлинность своих работ».
Если плохо, пусть будет еще хуже. Совсем невыносимо пусть будет.
Ад так ад!
Как тогда, лет десять назад, когда ей первый раз показалось, что она летит в бездну.
В девятнадцать лет она оказалась почти на улице. Одна.
Расстрел
Савва
Балаклава. 1919 год. Октябрь
Те же костоломы, что сидели с двух сторон от него в машине, ведут Савву вниз, в подземелье. Один из них с совершенно бульдожьей мордой заталкивает его в темную камеру с низким потолком, с крошечным грязным оконцем, набитую людьми — не продохнуть. Закрывает двери на тяжелый засов.
Савва оглядывается по сторонам. Скамеек нет, стульев нет. Ничего нет. Кто может, сидит на полу, кому не удается присесть, тот стоит, пригибая голову — потолки низкие, даже невысокому Савве полностью не разогнуться.
Не снимая синее драповое пальто, в которое весной было зашито ожерелье графини Софьи Георгиевны, что и спасло их с Анной и девочками от голода, садится прямо на пол рядом с закопченной от чадящей лампы стеной. Нащупывает в кармане небольшой пинцет для марок. Машинально начинает рисовать на стене.
И вычислять, есть ли у него шанс выбраться и какие действия для этого нужно предпринять? Или шанса у него нет, и незачем тратить силы напрасно, а лучше последние часы жизни посвятить чему-то другому? Вспомнить всех бабочек своей коллекции, например. В это лето он наконец нашел редчайшие экземпляры стевениеллы сатириовидной и поликсены и превзошел коллекцию младшего Набокова, обидно, однако, что Владимир этого не узнает.
Привычка у Саввы такая — всегда что-то чертить и рисовать, пока идет работа мысли. Порой он сам не понимает, что рисует, замечает только тогда, когда мыслительный процесс окончен. Так и теперь.
Николай хочет его убить.
Николай хочет убить его сам. Лично. На глазах у всех. Чтобы никто из сослуживцев не заподозрил офицера деникинской армии в связи с красным шпионом.
Савва не красный шпион, но, похоже, здесь знает об этом только он.
Николаем движет трусость. Трусость и страх быть заподозренным в сотрудничестве с врагом.
Трусость не лучший двигатель. Доведет до плохого финала. Шансов встретить завтрашнее утро живым у него ничтожно мало. Не более одного-двух процентов. Против 98 % не встретить живым. И те два процента в расчете лишь на чудо, в которое материалист Савва не верит.
— Ну ты Репин!
Мужик, по виду из блатных, с железным зубом, который они называют «фиксой». Савва прежде таких не видел, но про уголовный мир и повадки блатных читал и теперь догадывается, что в этом подвале не только политические, сотрудничавшие с врагами, но и простые уголовники.
Блатной с фиксой разглядывает рисунок Саввы на стене.
— Бурлаки на Волге прям! В жульнаре картинку видал!
Сам того не замечая, Савва, пока размышлял, нарисовал на закопченной стене Памятник затопленным кораблям, который видел прошлым летом в Севастополе, когда ездил туда с дядей Дмитрием Дмитриевичем, Анной и девочками.
Почему вдруг этот памятник? Затопленным кораблем себя ощутил?
Мужик с железным зубом подходит поближе — перед ним в тесной камере все расступаются. Вертит головой — на рисунок, на Савву и, приблизившись вплотную, спрашивает:
— А докýмент так срисовать могёшь?
Савва машинально кивает, всё еще размышляя о своих минимальных шансах на выживание и о том, чему посвятить последние часы жизни — не хотелось бы потратить их на малоинтеллектуальные беседы с уголовником.
Мужик с железным зубом лезет в карман своего полушубка, явно снятого с некогда зажиточного гражданина, достает удостоверение из тех, какие деникинские власти выдают теперь гражданам.
— Такое могёшь?
Савва снова кивает. Что там мочь? Качество полиграфии у поиздержавшейся деникинской армии крайне низкое. Печать примитивная. Степеней защиты никаких.
— А такое? — Мужик извлекает из другого кармана купюру, которая в ходу сейчас.
Савва берет купюру, подносит ближе к глазам — в деньгах он не больно смыслит, деньги всегда идут мимо него, даже то немногое, что было положено от красных, в Алупкинском ревсовете Анна всегда сама получала, чтобы Савва по вечной своей растерянности не потерял.
Теперь Савва разглядывает купюру внимательно.
— На свет посмотреть нужно.
— Разошлись-расступились! Кому сказано! Расступись от окна! — кричит мужик, и со всей дури лупит и гонит взашей не успевшего «расступиться» такого же бандитского вида низкорослого пухлого мужичонку без переднего зуба, одетого, как и первый, в явно снятый с кого-то дорогой полушубок.
Савва достает из кармана свои круглые очки с треснувшими, когда здоровые увальни его по скуле били, стёклами. Скула болит. Сильно болит. И выбитые зубы шатаются. Теперь бы их доктору показать, залечить чем-то, думает Савва и тут же ловит себя на другой мысли. У него 98–99 %, что не избежать ему смерти, а он про выбитые, но не выпавшие зубы думает, как их залечить. А что зубы ему нужны не больше, чем на оставшийся час до расстрела, не думает. Что это — инстинкт самосохранения? Или его всегдашняя оторванность от реального мира, за которую вечно все родные ему пеняют?
Надевает очки, подносит деникинскую купюру ближе к тусклому свету от небольшого грязного оконца. Из оконца видна пристань. И линейки солдат с винтовками, которых на эту пристань шатающийся от выпитой водки Николай Константиниди выгоняет и в одном ему известном порядке строит. Ни на какую из известных Савве военных шеренг такое построение не похоже, но что с пьяного солдафона взять?
— Чё задумался, Художник? — прерывает его размышление о построении на пристани мужик с фиксой. — Апосля смерти думать будешь. С деньгой та чё?
— Можно. Бумага дешевая, степеней защиты нет. Только воспроизвести зеркально рисунок на клише и отпечатать.
— О, то дело! — довольно усмехается мужик с фиксой и представляется: — Серый я! Лёнька Серый. Серого в Севастополю кажный знает.
Покровительственно кладет Савве руку на плечо.
— Знать только недолго осталось, — машинально бормочет Савва. — Построение уже на пристани. Скоро расстреляют.
— Кого как! И за какие деньги!
Хохочет Серый. И подзывает мужика, которому недавно врезал по шее.
— Аморий! По женской части он у нас ходок, — поясняет он Савве странное прозвище своего подельника. — В синематеке еще до войны увидал, что такой манер зовется Аморий, так кликуха к нему и прилепилась!