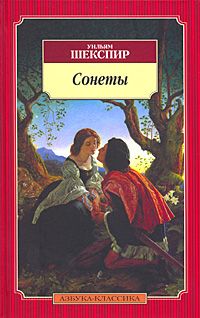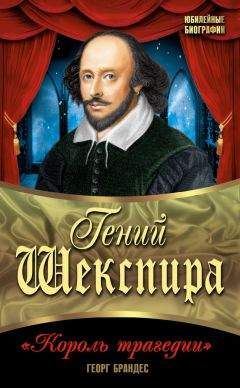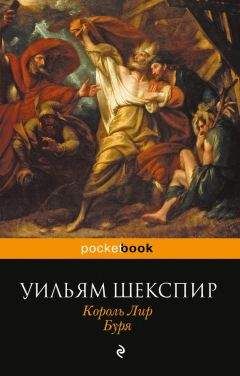Приключение Шекспира - Поль Жан
Он думал, думал — и поэзия облекала дивными словами мысль его; великий человек писал то, чего не могли нагладить следы двадцати поколений.
Но даже и в минуту этого вдохновения, этого воспроизведения дивных творений своих, Виллиам переходил мгновенно от жизни к небытию, как будто бы сила воли замирала в груди его, как будто бы поэзия покидала его душу. Подобно отверженному ангелу, он падает на землю.
В эти мучительные мгновения невыразимой тоски, он с негодованием бросал бумагу и свои сочинения, ходил по комнате, восклицая:
— Бедный Шекспир! И ты осмеливаешься гордиться тем, что существование твое совершеннее, что на челе твоем горит печать божества!.. Зачем не схож ты с другими? Зачем мысль твоя выше мысли толпы, страсть порывистее страстей ее, любовь пламеннее ее любви? Зачем? Любовь, подобная твоей, губит искусство, потому что с той минуты, как искусство пересиливается любовью и ему предпочтут женщину — прости, бессмертие, лелеющее человека с самой колыбели!.. Ревнивое к тому, чье имя должно передать векам, оно покинет его, ежели он осмелится посвятить другому свое неземное существование, ему одному принадлежащее…
Любовь губит искусство, бедный Шекспир; искусство с каждым днем гаснет в тебе, вдохновение уж тебя не посещает, бессмертие бежит твоих произведений!.. А эта любовь, которой ты всем пожертвовал, заменила ли она тебе и искусство, и вдохновение, и жажду бессмертия!.. О! нет! Ты не узнал ни ее судорожных восторгов, ни ее небесного упоения, ни глубоких потрясений души…. Ничего!.. Твоя любовь подобна беспредельной пустыне, по которой стремишься без цели, без ожидания, не находя ничего в настоящем! Нет ни источника для утоления палящей жажды, нет ни тени для отдохновения… нет ничего, кроме палящих лучей солнца, кроме неизмеримости, кроме пустоты…
Это оттого, что ты любишь так, как никто не любил в природе!..
Это оттого, что ты любишь женщину, которой ты никогда не видал и никогда не увидишь. Голос ее, как воздушное пение, онежил слух твой, слова очаровали, а душа овладела твоей душою…
Бедный поэт, которого свели с ума нежный голос, очаровательные речи, душа ангела!..
Бедный поэт, дозволивший с такой ранней юности поселиться в душе своей страсти, которая окончатся, может быть, вместе с жизнию!..
Эта ужасная мысль взволновала Шекспира. Как пораженный громом, сидел он несколько времени, потом встал, сложил бумаги и направил шаги свои ко дворцу герцога Брогиля.
Он всходил на крыльцо к его превосходительству, когда к нему подъехала молодая дама в белом платье. Это была маршальша Шабер.
Ропот удивления приветствовал прекрасную француженку; но это не было еще полною данью красоте ее. На коленах должно было боготворить ее, и целое столетие не говорить ни о чем более… Она была так бледна, так страждуща, что в душе рождалось невольное желание взять ее в объятия, целую вечность держать близь сердца, прильнувши устами к устам, чтоб только вдохнуть в нее часть своего существования…
Это была одна из тех женщин, которые против воли принуждают любить себя; одна из тех женщин, которую, увидевши однажды, видеть беспрестанно делается потребностию; одна из тех женщин, которою восхищается всякий и про которую самый равнодушный скажет поневоле: «Ах! как хороша она!..»
В безмолвном изумлении смотрел на нее Шекспир несколько минут, не будучи сам в состоянии определить свойства своих ощущений.
Молодые лорды и придворные толпою теснились к маршальше, осыпая ее приветствиями. Его бедное сердце сжалось.
Было ли это начало или только предчувствие любви?
Еще в прихожей встретил ее хозяин дома и, взяв за руку, ввел в залу.
Виллиам последовал за ними. Голова его горела, и когда маршальша села, он поместился в углу той же комнаты, при всяком очаровательном ее движении повторяя с тоскою: «Это она, она — мой возлюбленный ангел!..»
Несколько минут спустя она сняла перчатку с руки своей.
И Шекспир готов был броситься на колени перед нею; какой-то злобный демон нашептывал ему на ухо: «Виндзор, Виндзор, Виндзорская перчатка!»
Тут он не мог сидеть более. Быстро вскочил с своего места… долго бродил по комнатам, пока не пришел наконец в залу, убранную роскошнее прочих.
Множество люстр разливало необыкновенный свет, ярче дневного света, ярче лучей солнечных летом.
Он поднял глаза, перед ним летали бесчисленные толпы женщин и девушек. Первое его чувство было глубочайшее удивление.
И как ни сильна первая любовь, как ни подавляла она в нем всякую восторженность, как ни каменила его сердце, как ни леденила взоры, он не мог, однако, смотреть равнодушно на эти воздушные, бледнолицые, темно-русые создания, судорожно кружившиеся в упоительных танцах…
Виллиам не мог не уступить этому очарованию…
Притом музыка с ее звучными, усладительными аккордами, была так выразительна!..
Освещение, женщины, девушки, многолюдство, звуки музыки, танцы — все это заставило его невольно позабыть на мгновение любовь свою.
Блаженство настоящего убивало его однако. Он вышел в другую залу, там на креслах малинового бархата сидела герцогиня Брогиль; тут ее гингет смешил ее до слез.
С горестию смотрел Виллиам на этого богато одетого карлу, и в это мгновение он почти готов быль укорять Творца, создавшего столь презренное существо.
Быстро еще летали по зале танцующие, еще громко раздавалась звуки музыки; он хотел слушать и смотреть, но как будто какой-то призрак летал перед его взорами, как будто чувствуя нужду в уединении, он медленно вышел.
Он снова сел в углублении окна той залы, где находились герцог и маршальша. Там, опершись головою на руки, чтобы лучше скрыть свое смущение, он предался размышлению.
— Вы оставляете нас, графиня? — сказал герцог, подходя к маршальше. — Верно, вам наскучило пребывание в Англии?.. — прибавил он тише, устремив на нее проницательный взор.
Виллиам почувствовал, что при этих словах вся кровь прилилась к его сердцу.
— Виндзор в особенности прелестен, — продолжал герцог, — и для вас должен быть вторым отечеством… Там, как кажется, шесть месяцев тому назад… вы встретили..
Виллиам снова затрепетал, он не смел дышать более.
— Герцог! — сказала маршальша задыхающимся голосом, так что Шекспир не мог разгадать значения этого слова.
— Будьте уверены, что рыцарь Англии умеет быть скромным! — начал герцог. — Ради Бога, скажите мне одно только слово: унесете ли вы с собой во Францию воспоминание того, что случилось с вами в королевском саду в Виндзоре…
— Воспоминание это будет вечно со мною, герцог, вечно! — И потом она прибавила шопотом: — А он — здесь ли он?..
— Здесь, графиня.
Тогда маршальша хотела вскочить с своего места.
— Останьтесь, сударыня, — сказал ей герцог, — останьтесь.
— И вы требуете, чтоб я осталась? — продолжала графиня. — Если бы мы были одни, герцог, я приложила бы вашу руку к голове моей и спросила бы вас, сильно ли горит она? А если б и после того вы потребовали, чтоб я осталась, я бы снова взяла вашу руку, положила бы ее сюда, на мое сердце, и спросила бы, сильно ли бьется оно, это бедное сердце, терзать которое вы находите удовольствие!.. Всякое биение его есть уже страдание, почти угрызение совести… А если б и тогда вы захотели, чтоб я осталась, я пробыла бы здесь до тех пор, пока слезы иссякли бы в глазах моих, и потом, герцог, клянусь моей честию, я была бы готова кричать, что вы недостойны вашего благородного имени, что вы недостойны герба на щите вашем.
— Вы дурно обо мне думаете, сударыня! — отвечал герцог. — Разве вы забыли, что аллеи Виндзорского сада очень темны…
— Молчите, ради Бога, молчите! Да! Голова моя горит; вы правы, милорд, аллеи Виндзорские очень темны… Я останусь… останусь… — Последние слова эти были сказаны громко.
— Это она! Она! — вскричал Шекспир, обманутый такою доверенностию.
Маршальша затрепетала.
— Я не знала до сих пор, — сказала она с горькою усмешкою, — что дом английских лордов открыты для людей, которых ремесло — угадывать слова из наших движений, склонности из наших взглядов.