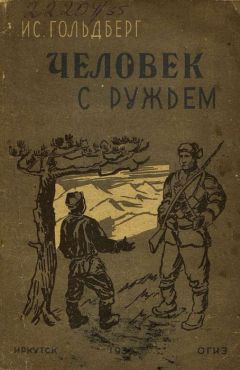Исаак Гольдберг - Блатные рассказы
Ночь я провел тревожно. К болям в горле прибавилось вот это необъяснимое, что шло от бодрствующего больного. Я мало спал. И когда бы я не попытался крадучись, внезапно взглянуть в ту сторону, где стояла койка парализованного, я каждый раз обжигался горячим, непереносимым, как мне тогда казалось, поблескивающим взглядом безумных глаз.
3.Утром проснулся я разбитый, с обостренной болью в горле. Я припомнил то, что было ночью, и хотя, собственно говоря, ничего особенного не случилось, мне казалось, что ночь была полна какого-то значительного сложного содержания. Я поискал глазами моего больного. Он в это время полз, как и вчера днем, вслед за служителем. Как и вчера, арестанты, мимо которых он проползал, гадливо подбирали свои одеяла и бушлаты. Он полз торопливо, но на этот раз я успел лучше разглядеть его лицо, поймать его взгляд. Это был взгляд загнанного, затравленного пса.
Когда он скрылся в дверях, я перегнулся к ближайшему соседу по койке и спросил.
— Что это он?..
Но еще прежде, чем он успел мне ответить, по удивленному и даже укоризненному взгляду моего соседа я понял:
— Лягавый!..
Как же я это сразу вчера не понял? Разве трудно было определить с первого взгляда, что это презираемый среди арестантов, преследуемый ими «стукач», предатель, начальнический наушник, шпион, которых, раз разоблачив, тюрьма выбрасывает из своей среды, заставляет убираться в «сучий куток», или, если удастся, убивает? — Мне стало стыдно самого себя — эх, старый тюремный сиделец, а такой вещи простой сразу не сообразил? — и я перестал расспрашивать о лягавом, о его парализованных ногах, об его прошлом.
Днем доктор полазил в мое горло своей щеточкой, потом меня увели в операционную, там меня живо скрутили, прорезали нарыв, промыли и отпустили обратно в палату.
— Дня два проболтаетесь здесь, а потом можете снова гулять себе в свою камеру!..
Я эти два дня проболтался, отдыхая от боли и ощущая блаженное чувство выздоровления.
В эти два дня я уже проще и спокойней разглядывал ползучего больного и подмечал каждый штрих, каждую мелочь, связанные с ним.
Я видел, с какой тревогой, с какой опаской прикасался он к пище, и я чувствовал и понимал, как боялся он какого-нибудь подвоха со стороны соседей. Каждое движение со стороны кого-нибудь из больных по его направлению наливало его удесятеренным страхом: он весь сжимался на койке и в глазах у него зажигался ужас.
Было вчуже жалко смотреть на него и я легко и весело вздохнул, когда меня выписали из больницы и позволили вернуться в прежнюю камеру, к своим.
4.Когда я водворился обратно на прежнее свое место и стал весело устраиваться на койке, кто-то из товарищей спросил меня:
— А ты не встречал в больничном бараке палача?
— Палача?! — переспросил я.
— Ну, да — палача. Он там уже месяца два обретается. Кобылка выдумала для него остроумную пытку: его предупредили, что прикончат, и он всё, говорят, ждет, когда его отравят или задушат...
— Вот как!.. — всполошился я: — Теперь я все, окончательно все, понимаю.
И я рассказал товарищам обо всем, что видел в бараке.
А позже, на прогулке, когда уголовному старосте удалось пробраться на наш двор, я расспросил его про палача и он рассказал мне:
— Этот гад в палачах ходит, стало быть, давно. Самарский он. Из города Самары. Жену он отравил, за жену на каторгу ушел. Строк ему был дан большой, ну, между прочим, удалось ему облегченье себе сделать: в побегах с полгода ходил. Поймали его и, конечно, припаяли строку. И ничего был человек, не замечалось за им никакой промашки. Но вышел тут один фокус. Дали смертную трем паренькам, за почту. Почту пощупали и при том ямщика и почтальона укокали. Ну, ждут своего часу осужденные. Конечно, в тюрьме сумно, притихли. Смёртная-то казнь не всегда бывает, а тут еще сразу трех сказнить собираются. Ну, день проходит, два, три и ничего не происходит. Что за причина? Оказывается, начальство палача найти не может. Приговорить-то к смёртной приговорили, а палачём не запаслись. И вот пошли шуровать по каморам. Стали щупать долгострочных, подговаривать, сомущать. Думают — польстятся ребята на скидку строка и подобное облегчение. Однако, время проходит, а желающих нет... Конечно, менты своего в конце-концов добились, палача сыскали и ребят тех повесили. Но вешать-то по приговору нужно было троих, а прикончили только двоих. Третьему уж петлю на шею насдевали и в ту самую минуту зачитали ему помилование, замену, значит, смёртной восемью годами каторги. Парень, конечно, в одиночку свою явился обалделый, но, между прочим, очухался, а потом давай все припоминать. И заприметилось ему, что хоть палачи — двое их было — и машкированные были, но в одном быдто знакомый ему почудился. Дальше — больше, думал, соображал парень — и все то выходит у него, что шибко Шестоперов (Шестоперовым прозывается гад-то этот, палач) на палача показывается. Ну, рассказал он головке... Те давай примечать. Сначала ничего за Шестоперовым не замечалось... И уж хотели было его совсем с подозрения снять — вдруг вызывают его с вещами. Перевод ему в Читу делают. Что, почему? — неизвестно. Только проходит какой-нибудь месяц, приводят его к нам снова. А в это время прикинули мы обстоятельства и замечаем, что в те самые числа, когда должен он пребывать в Чите, сказнили двух взломщиков по мокрой... Одним словом, добрались мы до сволоча, дознались. А, дознавшись, вышибли мы в один прекрасный вечер дух из его. Да, видно, второпях неаккуратно действовали, остался он, тварина, в живых, хотя и обезножил и на весь век хворым сделался.
Когда объявилось, что жив он, разгорелись ребята и решили вторично окончательно пришить его. Однако, по обсуждению дела, и как увидели мы его положение, то решили не марать больше рук о такую пропастину, а содаржать его под страхом. Объявили ему, что так, мол, и так, а все-равно жизни тебе, сукин сын, не будет: или удавим, или отравим... Вот он и ждет. Видал, небось, как его в больнице карежит?!..
Я вспомнил полубезумный взгляд палача, его постоянное, захлеснувшее его, ожидание смерти и необдуманно сказал:
— Что же вы его, наконец, не прикончите?
Староста поглядел на меня насмешливо и сожалительно.
— Чудак-человек! — улыбнулся он: — Так зачем же мы такому гаду облегченье делать будем? Если пришить его, это ему прямо благодеяние. Нет, пущай, падина, чувствует!..
* * *На будущий год, на большом якутском этапе, встретился я с этим старостой. Встреча была самая родственная и радостная: как же, одну баланду хлебали!
После разных распросов о том, о сем, спросил я, между прочим, и о палаче:
— Все еще пытаете его?
— Нет, — огорченно ответил мой знакомый, — освободился, гадюка! Изловчился, веревочку себе раздобыл и удавился на спинке койки...
Я вспомнил, мерцающие в сумраке барака, дикие глаза, вспомнил зашибленностъ и убивающий страх, притаившиеся во всей фигуре, во всех движениях, тогдашнего моего соседа по больничному бараку и поверил в мудрость жестоких тюремных законов.
Справедливость
Эту коротенькую историю рассказал мне на этапе, в пахучий звездный августовский вечер, старик Громов, белый, крепкозубый тюремный патриарх. Рассказал со свойственным ему эпическим спокойствием, без отступлений, философствований и литературных прикрас.
* * *— Видал ты, сынок мой, какие бывают катавасии. Единыжды у нас такое было, что вот был человек и изничтожился без всяких следов, словно растаял...
Ну, устраивали мы, примером говоря, побег. Обладили мы все, как следовает, расплантовали, то, пятое, десятое. И выходит, что, как к концу дело склонилось, у нас вышла полная и окончательная засыпка. Ясное дело, обидно нам, досадно, но, окромя этого, запало нам в голову:
— А кто же застукал? С которой стороны ветер дует?
Перебрали мы всех каморных жителей, того, другого. Пощупали у соседей — всё, как быдто, благополучно, все благонадежны. Надо бы нам успокоиться и отстать от следствия, но, главное дело, вошли мы в азарт: шутка ли, все было так хорошо облажено, и завелась этакая гадина, что обчественное дело подкачала. А по всему течению обстоятельств твердо мы убедились, что действовали тут нечистые руки, есть, непременно есть возле этого дела лягавый.
Конечно, сгоряча поискавши и не найдя гадину, попритихли мы: мол, ну, что же делать, не нашли, значит, нету. А тем временем взяли на глаз всю камору.
Туг вышли из карцеров наши, достоверные которые и бывалые, и совместно пошел у нас тихий надзор.
Глядели мы, подглядывали, следили, и вот замечаем мы, сынок мой, единыжды неаккуратный поступок у рыженького одного, в нашей же каморе который.
Тихий он был, смирный и ничем себя не объявлял. По денежному делу он сидел: то ли сумму какую-то казенную проиграл, то ли сундук пощупал. Словом, арестант средний. И в мыслях у нас ни у кого против него не было. А тут вдруг, пожалуйте: