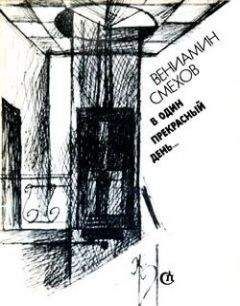Валентин Пикуль - Памяти Якова Карловича
Жене своей Яков Карлович не раз говорил:
– Ты, Наташенька, извещена о круге моих друзей – Державин и Хемницер, Ломоносов и Сумароков, наконец, и великая Екатерина тоже в моих приятельницах. Но чаще я вспоминаю о Пушкине… Ведь он мог бы еще жить среди нас, и часто мне думается – каков он был бы сегодня, в свои преклонные годы? Наверное, седой. Возможно, и располневший. Гулял бы с внучками по Невскому… Нет! – сказал Грот. – Далее с памятником ждать нельзя: я решил разбудить спящих ударом в колокол. Постыдно, что усердие почитателей поэта вдруг охладело…
19 октября 1871 года – по инициативе Грота – образовался особый комитет, в него вошли немало стариков-лицеистов, сообща решили ставить памятник поэту не в Царском Селе, как было задумано ранее, и даже не в Петербурге, а именно в Москве (так и появился в первопрестольной опекушинский памятник, без которого мы уже не мыслим столичного пейзажа). Денег от народа, собранных по подписке, оказалось больше, чем надо, и Грот эти «лишние» деньги употребил для выдачи премий за лучшие литературные произведения. Мало того, что Яков Карлович оставил нам и чудесную книгу «Пушкин, его лицейские наставники и товарищи». Честно скажу: сколько уж я копался в лавках букинистов, но этой книги никогда в руках не держал.
А теперь, читатель, позволю тебе немного и посмеяться.
Чистокровный немец по отцу и матери, Яков Карлович Грот вел в Академии наук затяжную войну с «немецким засильем». Странно, не правда ли? При графе Уварове и при графе Литке, оседлавшем академического скакуна, в Академии воцарилось «поклонение германскому ученому миру, – здесь я цитирую самого Грота. – Граф Уваров был ослеплен блеском западной цивилизации… он целиком подчинился влиянию непременного секретаря (Академии) Фусса и вообще немецких академиков. Русских ученых и труды их он мало ценил… Граф Литке так же, как и граф Уваров, был горячим почитателем германской науки… По какому-то непонятному предубеждению он считал занятия русской и славянской филологией менее почтенными, чем занятия какою бы то ни было другою отраслью языкознания…» – так писал Грот.
– Каково же мне, – говорил он любимой жене, – с моими любимыми Державиным и Сумароковым противостоять этим твердолобым «немцам», для которых русское прошлое и плевка не стоит? Почему в простом народе, в неграмотных бабах и темных мужиках, я встречаю цельное и осмысленное понимание российского патриотизма, – а эти… эти… видят в русском народе только рабов, видят в деревнях только квас да лапти!
Подвигом жизни Якова Карловича стало издание трудов Державина – вся эпоха его жития-бытия вдруг предстала в девяти гигантских томах, а последний том (тысяча страниц) стал заключительным аккордом, определившим величие времени, в котором поэт жил, страдал, любил и ненавидел. Впритык к этим томам Грот поставил свое исследование о Пугачевском бунте, а изданием бумаг Екатерины II сделал завершающий мазок на великолепном полотне ее царствования… От жены он ничего не скрывал.
– Что бы там ни болтали о множестве ее фаворитов, но, отбросив альковные тайны, перед нами вырастает могучая фигура гениальной женщины, которая, будучи немкой, лучше иных русских понимала цели и задачи великого Российского государства…
Конечно, он, как скандинавист, не обошел своим вниманием и отношения Екатерины со шведским королем Густавом, Грот поведал русскому читателю и о судьбе Котошихина, которого зловещая судьба возвела на эшафот в Стокгольме. 1887 год стал для Грота значительным: в древней Упсале шведы отмечали 400-летие своего прославленного университета, и Яков Карлович на этом празднестве представлял в Упсале русскую науку. Съехалось немало гостей – ученых из всех стран Европы, но каково же было удивление многих, когда русский депутат произнес здравицу на добротном шведском языке, тут же переведя ее на божественную латынь, повторил сказанное на немецком, английском и французском. Шведский король Оскар II, сам историк и писатель, пригласил Грота в королевский дворец – поужинать.
– Не вы ли тот Грот, что перевел Эйленшлегера?
– Я, ваше величество.
– Тегнера не вы ли перевели на русский язык?
– Я, ваше величество.
– Выпьем! – сказал король. – У меня много русских друзей, а вас я хотел бы видеть почетным доктором в Упсале…
Близилась старость. Яков Карлович мало ел, зато много трудился, он был высок и худощав, при ходьбе усиленно взмахивал тростью, перед дамами издали вскидывал цилиндр и почтительно кланялся, широким жестом одаривал пятаками швейцара, отворявшего перед ним двери в петербургские салоны, он любил анекдоты, но только те, в коих блистало остроумие персон века минувшего. Яков Карлович удивлял на улице прохожих своей шотландской бородкой, делавшей его похожим на шкипера парусных времен, которые выбривали лишь подбородок…
– Кто этот чудак? – спрашивали прохожие.
– Этот? Стыдно не знать вице-президента Академии наук…
Грот стал им за четыре года до смерти.
Русская наука высоко ценила трудолюбие Грота:
Вы – утром вышли на работу,
А мы – в двенадцатом часу…
Нельзя сказать, читатель, чтобы Якова Карловича у нас совсем уж забыли; он благополучно уместился в томах советских энциклопедий, но русские историки упоминают о нем от случая к случаю (чаще, когда идет речь об опекушинском памятнике Пушкину). Как это ни странно, о нем лучше помнят эстонские ученые; я, например, с удовольствием ознакомился с монографиями Эйно Карху, который не скрывал больших заслуг Грота в старом сочетании двух соседствующих культур – финской и русской, русской и скандинавской. Это мне понятно. Но почему же мы, россияне, не издаем почтенных трудов Якова Карловича?..
Начинаю печальную страницу. Грот начал болеть с 1891 года, его часто знобило, он уже не сам просыпался, преисполненный энергии, а его будили домашние.
– Обычная инфлюэнция, – говорил престарелый доктор Здекауэр. – Зачем лечиться? Он же совсем молодой человек…
Наталья Петровна все-таки уговорила мужа выехать для лечения за границу, и это не стоило ей большого труда, ибо Яков Карлович боялся своего предстоящего юбилея:
– Осенью стукнет шестьдесят лет моих трудов, а знаешь, Наташенька, что говорят в таких случаях гости, которых я должен кормить и поить на банкете… Стоит ли мне сидеть, как дурак, и слушать о себе всякую похвальную ерунду? Лучше скрыться!
Грот вступал в последний год своей жизни.
Весною 1893 года он сам хотел бы пораньше уехать в рязанскую деревню, но умерло несколько академиков, и он, человек долга, считал для себя нужным остаться в столице, чтобы позаботиться о пенсиях осиротевших семей. Грот выезжал лишь в Царское Село ради прогулок в парке, и однажды, посетив старый Лицей, он высказал перед женою свое отношение к критикам и завистникам, никак не отделяя зависть от критики, и Наталья Петровна, словно предчувствуя скорый его конец, тут же записала мужние слова, которые я привожу дословно:
– Скажи, – говорил ей Грот, – отчего у нас на Руси никакой серьезный труд не встречают с благоволением и не вызывает такой же серьезной и беспристрастной критики, как в других странах? Отчего у нас в России намеренно умалчивают о достоинствах труда, всегда стараясь выискать в них мелкие недостатки, неразлучные со всяким человеческим трудом, и почему эти мелкие досадные промахи критики выставляют наружу с каким-то особым, торжествующим злорадством?.. Кто же из нас может похвалиться абсолютным совершенством? Но, указывая на недостатки, нельзя замалчивать и явных достоинств…
Во время этой же прогулки он сказал жене:
– Напишу еще листа три, доведу до конца корректуры, и пора подумать об отдыхе… Наташа, не снять ли нам дачу?
24 мая Грот выглядел бодро, но потом его опять стало знобить. Наталья Петровна поставила ему градусник – он показал сорок градусов. Пришла замужняя дочь, и Грот сказал ей:
– Мама-то как волнуется! Но все пройдет. Как всегда…
Наступил вечер. Жена поставила ему горчичники, чтобы оттянуть жар. Грот, как писала она, «лежал спокойно, держа мою руку в своей, и нежно глядел на меня… На вопрос мой, не болит ли у него что, он отвечал, что ему лучше. Около восьми часов вечера он вдруг быстро приподнялся с подушек и крепко сжал мою руку – как бы от внезапной боли:
– Спасибо тебе за все… спасибо… спаси…
После чего он тихо опустился на подушки и продолжал глядеть на меня своими кроткими глазами, пока не закрыл их навеки!»
Это случилось 24 мая 1893 года – труд жизни был завершен.
«Да будет же память его незабвенна!» – этими словами жена заканчивала свой рассказ, а мне стало печально: почему ошибки человека у нас высекаются в камне, а его добрые дела пишутся прутиком на зыбком песке?