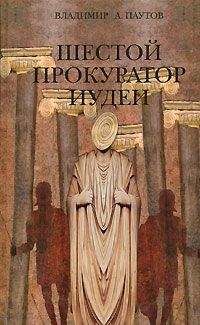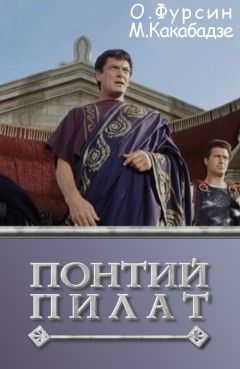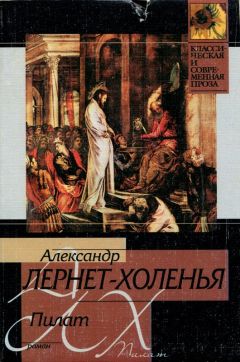Пол Джефферс - Боги и влюбленные
На следующий день я работал в саду Прокула, когда меня вызвали в храм. Примчавшись туда, я увидел служителей, стоящих перед прекрасным образом Приапа, и Ювентия, чье лицо искажал гнев. Перед нами лежал обнаженный Сэмий; его спина кровоточила от свежих ударов бича. Когда я шепотом спросил Марата, что случилось, он сдавленным голосом произнес:
— Он снова сбежал, и ты понимаешь, что это значит.
Я не хуже других знал закон, хотя за все годы служения в храме ни разу не слышал, чтобы к нему обращались. Злополучный Сэмий оказался первым.
Вряд ли он понимал, что ему предстоит. Он плакал как пострадавший от наказания, а не как жертва, осознававшая последствия своего проступка. Простой деревенский мальчишка, он никогда прежде не произносил слово, от которого замирало сердце каждого служителя в этом зале — распятие.
Скоро вокруг нас собралась болтающая, возбужденная толпа. Наша маленькая процессия вышла на Священную дорогу и направилась к Эсквилинскому полю. Люди знали, что мы идем на место казни: возглавлял процессию Ювентий, за ним попарно следовали служители. В центре процессии плелся Сэмий с веревкой на шее. Плакать он перестал, глаза потускнели.
Лишь когда ему на плечи водрузили перекладину креста, он понял, что его ожидает.
— Нет, нет, пожалуйста, — взмолился он. — Я больше не убегу, обещаю!
Обратив ко мне полные ужаса глаза, он зарыдал:
— Ликиск, сделай что-нибудь! Ты же мой друг, Ликиск!
Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, но даже зажав уши руками, слышал его голос, крики боли и стук молотка, которым Ювентий загонял гвозди в руки, крепя их к концам перекладины. Когда до меня донеслись восклицания толпы, я приоткрыл глаза и увидел свисающего с креста Сэмиуса, крепко привязанного к доске. Мальчик снова закричал, когда Ювентий вогнал гвоздь ему в стопы, прибив их к столбу. Вскоре мы пошли назад, но еще долго, идя по Священной дороге, я слышал, как он зовет меня.
— Ликиск! Ликиск! Пожалуйста, сними меня! Ликиск… мне… больно!
Он умирал два дня.
Слухи о распятии рождались мгновенно и разнеслись по городу быстрее, чем я вернулся в дом Прокула. Эту историю рассказал Паллас, мальчик-раб, которому я очень нравился. Он жаждал знать обо всем из первых рук и очень обиделся, когда я отказался с ним обсуждать случившееся. Вместо разговоров я закрылся у себя в комнате, как делал, если хотел поплакать наедине с собой.
Веселое солнце давно уже опустилось за край горизонта, когда в мою комнату вошел сенатор Прокул. Лежа в кровати с заплаканным лицом и красными глазами, я был не в силах подняться, но если Прокул и оскорбился, то не подал виду. Большой человек в тоге сел рядом, и от его веса заскрипела кровать. Он мягко заговорил со мной, положив руку на плечо и стараясь успокоить.
— Расскажи, что произошло.
Из-за отвращения при воспоминании о случившемся, а отнюдь не от невероятного нахальства, у меня вырвалось:
— Я не хочу об этом говорить!
— Мне необходимо знать правду, Ликиск. Честный человек не может придти к выводам, не зная фактов. Ты был там. Расскажи.
Мой рассказ занял много времени, поскольку я не мог удержаться от слез, однако сенатор был терпелив. Когда я закончил, он в гневе встал и направился к двери, а затем повернулся ко мне.
— Ты видишь последние дни этого храма, Ликиск, и если я обладаю хоть каким-то влиянием в Риме, это будут последние дни этого жреца.
— Господин, — сказал я, все еще сидя на кровати, — пожалуйста, не гневайтесь на бога из-за его священника.
Пораженный, Прокул вернулся ко мне.
— Во имя этого бога человек совершил невероятное зверство!
— Бог не имел к этому отношения, — вежливо возразил я.
Прокул покачал головой.
— И ты все еще чтишь своего бога?
— Я не виню Приапа за то, что кто-то поступил жестоко во имя него. Приап — бог любви и плодородия. Он бог садов, и я не вижу в нем ничего жестокого и злого.
— Ты собираешься и дальше поклоняться Приапу?
— Я научился любить то, о чем он заботится. Разве вам не нравятся сады, за которыми я ухаживаю?
— Сады делают тебе честь, Ликиск.
— Но я ухаживаю за ними с его помощью, потому что стремлюсь почтить вас, господин.
— Я запрещаю тебе ходить в этот мерзкий храм.
— Я могу служить Приапу в саду.
— Мне не нравится твой бог, Ликиск.
— Вы настроены против человека, который ему служит. Не думаю, что вы понимаете моего бога так, как понимаю его я.
— Твоя вера настолько сильна?
— Да, господин.
После долгой паузы Прокул в задумчивости подошел к постели и пристально взглянул на меня.
— Хотел бы я знать, как ты можешь любить этого бога после этих ужасных событий.
— Не хочу вас обидеть, господин, но в этом вы не отличаетесь от меня. Вы любите Рим, но я могу назвать множество очень жестоких вещей, сделанных Римом или во имя Рима. Ведь это Рим изобрел распятие, а не Приап.
Пораженный Прокул воскликнул:
— Ты забываешься, Ликиск!
— Я хорошо помню свое место, господин. Я — раб в Риме, и если вы сочтете меня виновным, то по законам Рима можете сделать со мной то же, что Ювентий сделал с Сэмием.
Хотя он вполне мог меня ударить, Прокул лишь покачал седой головой, развернулся и вышел в коридор. Обернувшись, он сказал:
— Я намереваюсь судить священника. Это я тебе обещаю. Но если ты так хочешь, я разрешу тебе поклоняться этому странному богу, завоевавшему твое сердце. Однако не в этом проклятом храме. Я прослежу, чтобы в саду поставили статую Приапа. И еще… должен тебе кое в чем признаться, Ликиск. Я впечатлен твоей верой.
Прокул сдержал слово, и в течение месяца в саду появилась моя собственная статуя Приапа. Я не ожидал, что он пойдет к тому самому скульптору, ранее изваявшему мое собственное изображение. Созданная им статуя была точной копией первой, за тем лишь исключением, что обладала характерной чертой Приапа. Ее поместили на краю сада между Янусом и Марсом. Каждый день я молился всем троим. Я молился Марсу, чтобы мой солдат остался жив. Я молился Янусу, чтобы он вернулся домой, ко мне. И я молился Приапу, чтобы он меня полюбил.
Но боги — большие шутники. В ответ на свои молитвы я получил только плохие новости. Марс ответил в виде письма Марка Либера своему отцу, где он сообщал, что минимум два года прослужит в каком-то далеком месте, о котором я ни разу не слышал. Янус нанес ужасный удар, забрав у нас госпожу, милую Саскию, умершую от страшной лихорадки. А Приап — самый хитрый из всех, — не подарил мне сердца Марка Либера. Вместо него он послал мне Тиберия.
III
Цезарь Тиберий Клавдий Нерон вошел в мою жизнь, когда мне исполнилось четырнадцать лет. Это был двенадцатый год его правления. Цезарь явился почтить Кассия Прокула по случаю весенних игр.
Дважды в год Прокул проводил гладиаторские бои, каждый из которых посвящался какому-то богу. В этот благоприятный год, чтобы отметить достижения мною совершеннолетия и несмотря на жесткое отношение, от которого он страдал из-за моего бога, Прокул посвятил весенние игры Приапу. Мои поклонники из числа его друзей обрадовались этой идее, и все важные люди Рима с готовностью приняли приглашение.
Разумеется, приглашение отправили и Цезарю, который ранее никогда их не принимал — все знали о его неодобрительном отношении к любым играм. Здесь точки зрения Цезаря и Прокула совпадали. Сенатор, как и Цезарь, терпел игры, поскольку они были полезны для политики. Для выдающегося сенатора, обладателя большой флотилии торговых кораблей, не платить за развлечения считалось неподобающим поведением, и это вряд ли бы улучшило его дела.
Весть о том, что Тиберий собирается посетить игры, удивляла по другой причине. Не секрет, что они с Прокулом все чаще спорили, и эти разногласия продолжались много лет (включая скандал после распятия Сэмия, когда Прокул публично проклял священника Ювентия). С тех пор редкая неделя в Сенате выдавалась без того, чтобы Прокул не выражал свое несогласие с чем-то, что любил Цезарь, зачастую перед лицом самого Цезаря, находившегося в доме Сената.
Когда стало ясно, что Цезарь появится на весенних играх Приапа, официальный Рим вздохнул с облегчением, рассматривая этот жест как уступку и примирение со своенравным и прямым Прокулом.
Я был мальчиком и любил игры. Я восторженно смотрел, с какой помпой маршируют мужчины, следил за приветствиями и волнующим парадом выходивших в круг бойцов. По спине у меня бегали мурашки от музыки, сопровождавшей их выход на свежий, ровный песок под внимательным взглядом божества, в честь которого проводились игры. Затем наступал величайший момент, когда бойцы хором приветствовали императора. «Ave Caesar, morituri te salutant!» Для юного Ликиска не было более романтичных и таинственных слов, чем эти. «Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» Я не знал, впечатляют ли эти слова Тиберия, но мне казалось, что умереть во время такого великого зрелища было высшей славой. Когда я пускался в восторги по поводу смертельной битвы на глазах у Цезаря, мой друг Паллас обычно начинал издеваться. «Я бы предпочел, — хмыкал Паллас, — увидеть смерть Цезаря глазами Палласа».