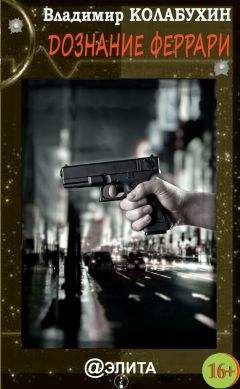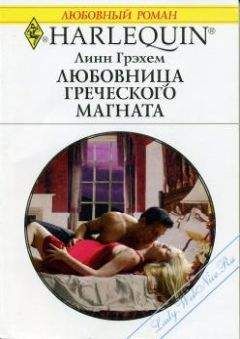Всеволод Соловьев - Нежданное богатство
— Анна, чего ты?! сейчасъ все развяжи… Куда укладываешься?.. все, слышь ты, все поставь, гдѣ стояло… ничего не прячь!..
Онъ вошелъ было въ домъ, но при видѣ перепуганныхъ, полураздѣтыхъ дѣтей, едва удержался отъ рыданій и выбѣжалъ снова на крыльцо, а оттуда черезъ огородъ къ церкви. Церковь была отперта. Степанъ Егоровичъ вошелъ въ нее; онъ увидѣлъ отца Матвѣя съ дьячкомъ: они вынимали въ алтарѣ изъ шкафа праздничныя ризы.
— Батюшка, ты что-же дѣлаешь? — спросилъ Кильдѣевъ, обращаясь къ священнику:- али церковное добро прятать хочешь отъ разбойниковъ, да гдѣ спрячешь, всюду розыщутъ?!
Отецъ Матвѣй, очень сухо поклонившись Кильдѣеву, какъ-то странно и недоброжелательно взглянулъ на него.
— О какихъ разбойникахъ изволишь говорить, Степанъ Егоровичъ? — сказалъ онъ. — А вотъ не нынче-завтра я государя Петра Ѳедоровича ожидаю, такъ приготовляюсь достойно встрѣтить его.
Кильдѣевъ хотѣлъ было говорить, но вдругъ замолчалъ и быстро вышелъ изъ церкви.
«Петръ Ѳедоровичъ», думалось ему: «это Фирска-то, можетъ, бѣглый холопъ какой, а то и того хуже — колодникъ, душегубецъ!.. это его-то онъ будетъ встрѣчать облекшись въ ризы, съ крестомъ… Ну, а мнѣ какъ его встрѣтить?»
Онъ вспомнилъ всѣ разсказы, одинъ другого страшнѣе, одинъ другого безобразнѣе; вспомнилъ, какъ изверги пытаютъ дворянъ, сдираютъ съ живыхъ кожу, безчестятъ дочерей на глазахъ у родителей. Ему ярко, ярко представилось, что вотъ, можетъ, черезъ нѣсколько часовъ, можетъ, сейчасъ и съ нимъ будетъ то-же самое. Онъ схватилъ себя за голову и побѣжалъ домой. На порогѣ стояла его третья дочь, красивая Маша. Онъ взглянулъ на ея поблѣднѣвшее, заплаканное милое лицо, обнялъ ее крѣпко, будто ужъ ее у него вырывали, и зашепталъ прерывающимся хриплымъ голосомъ:
— Машуня, пойди, пойди съ сестрами въ кладовую… спрячьтесь… не выходите… молитесь!..
Она громко взвизгнула. Сбѣжались другія дѣти, поднялся вопль во всемъ домѣ. Степанъ Егоровичъ стоялъ совсѣмъ растерявшійся, всѣ мысли вдругъ пошли врознь, и онъ никакъ не могъ собрать ихъ.
А въ это время къ крыльцу со всѣхъ ногъ бѣжалъ Наумъ и издали махалъ руками. Степанъ Егоровичъ взглянулъ на него и сразу все понялъ.
— Подходятъ! — крикнулъ Наумъ: — и конные, и пѣшіе… и наши съ ними… ужъ въ рощѣ… самъ видѣлъ…
Анна Ивановна, взрослыя дочери и всѣ дѣти страшно заголосили, но вдругъ замолкли и, тѣснясь и толкаясь, бросились во внутренніе покои. Степанъ Егоровичъ опустился на ступеньки крылечка и сидѣлъ неподвижно, съ исказившимся лицомъ, съ трясущимися руками. Наумъ стоялъ подлѣ своего господина спокойно и серьезно.
Ясный іюльскій закатъ заливалъ горячимъ свѣтомъ весь дворъ, огородъ и старую любимую Кильдѣевскую рощу, изъ которой доносились крики и дикіе раскаты нестройной пѣсни.
V
Не прошло и десяти минутъ, какъ во дворъ нахлынула полупьяная толпа, состоявшая изъ самаго разнообразнаго люда, одѣтаго во всевозможные костюмы. Здѣсь были и крестьяне, и бѣглые дворовые, и городскіе приказные, и купцы, и какіе-то проходимцы, прежнее званіе которыхъ опредѣлить было очень трудно. Всякій былъ одѣтъ въ награбленное платье; на сиволапой мужицкой фигурѣ виднѣлась богатая шапка, небритый пьяный лакей оказывался въ бархатномъ расшитомъ камзолѣ. Вооруженье тоже было самое разнообразное: виднѣлись ружья, пистолеты, но все больше топоры да дубины. И вся эта разнородная толпа кричала и ругалась. По дорогѣ она разбила два кабака и многіе были уже совсѣмъ пьяны. Какой-то приземистый, несовсѣмъ твердый на ногахъ старикашка, въ собольей шапкѣ и длинномъ плащѣ, кричалъ и махалъ руками больше всѣхъ. Его называли полковникомъ. Онъ выдѣлился изъ толпы и подошелъ, то и дѣло пу таясь въ своемъ плащѣ, къ крылечку.
— Эй, кто тутъ хозяинъ?
Степанъ Егоровичъ поднялъ на него сухіе горящіе глаза и, не тронувшись съ мѣста, не шевельнувшись, глухимъ голосомъ проговорилъ:
— Я хозяинъ.
— Ну, такъ чего-же ты, господинъ честной, такой неласковый. Вставай, встрѣчай гостей, видишь, царское войско къ тебѣ пожаловало, да и самъ государь Петръ Ѳедоровичъ сейчасъ будетъ.
Степанъ Егоровичъ хотѣлъ было встать, да и опять опустился на ступеньки. Наумъ, все попрежнему спокойный и серьезный, снялъ шапку и низко поклонился говорившему. Старикашка не обратилъ на него никакого вниманія и опять заговорилъ Кильдѣеву:
— Да, постой-ка, голубчикъ, сперва-на-перво скажи-ка ты мнѣ: кому вѣруешь — Петру Ѳедоровичу или Екатеринѣ Алексѣевнѣ?
Вдругъ страшная злоба подступила къ сердцу Степана Егоровича; его руки невольно сжались въ кулаки; ему безумно захотѣлось на мѣстѣ уложить этого плюгаваго старикашку; ему захотѣлось громко прокричать имя императрицы, а этого Петра Ѳедоровича обозвать его настоящимъ именемъ. Но мысль о томъ, что тамъ, сзади, въ комнатахъ, жена и огромное семейство, дѣти малъ-мала-меньше, эта мысль удержала его. Однако, увѣровать въ «Петра Ѳедоровича» онъ все-же не могъ и продолжалъ упорно молчать, глядя на кривлявшагося передъ нимъ старикашку.
— Э! да ты, видно, упрямецъ! — ухмыляясь, произнесъ «полковникъ». — Ну, тамъ государь самъ тебя разберетъ, передъ нимъ не отмолчишься. А теперь пока подавай-ка свою казну, да смотри, ничего не утаивать — хуже будетъ!
— Нѣтъ у меня казны, — тихо проговорилъ Степанъ Егоровичъ. — Вонъ мои крестьяне тутъ съ вами… такъ спросите ихъ, какая у меня казна…
И замолчалъ.
— Чего съ нимъ разговаривать, — крикнулъ старикашка:- эй, въ домъ, на осмотръ, а его вяжите!
Мигомъ нѣсколько человѣкъ кинулись на Степана Егоровича. Онъ не сопротивлялся. Ему связали руки назадъ веревкой. Онъ видѣлъ, какъ толпа разбойниковъ бросилась въ домъ; онъ чутко прислушивался почти съ остановившимся сердцемъ, — женскихъ и дѣтскихъ визговъ не было слышно, видно, всѣ успѣли выбраться изъ дома, попрятаться. Но, вѣдь, гдѣ бы ни спрятались, всюду найдутъ разбойники, послѣдній часъ пришелъ.
Между тѣмъ, Наумъ, увидя, что Степана Егоровича вяжутъ, не бросился защищать его, а отошелъ тихонько, замѣшался въ толпу и переговаривался то съ тѣмъ, то съ другимъ мужикомъ.
— Вѣстимо, обидъ отъ него не было, — говорили ему въ отвѣтъ:- да и взять съ него нечего, семья его одолѣла… ну, а все-жъ-таки баринъ онъ, да и не наша тутъ воля…
Въ это время гдѣ-то вблизи раздался звонъ бубенчиковъ, и вотъ лихая тройка въѣхала во дворъ. Въ покойной и дорогой коляскѣ, очевидно недавно еще принадлежавшей какому-нибудь богатому помѣщику, сидѣлъ развалясь высокій и плотный человѣкъ лѣтъ сорока пяти, въ треуголкѣ на годовѣ, въ бархатномъ камзолѣ и длинныхъ ботфортахъ. Въ толпѣ произошло движеніе, нѣкоторые сняли шапки.
— А вотъ и самъ государь! — прошамкалъ «полковникъ», приближаясь къ коляскѣ.
Сидѣвшій въ ней человѣкъ проворно выскочилъ безъ посторонней помощи и обратился къ «полковнику».
— Гдѣ-же хозяинъ? — спросилъ онъ.
— Здѣсь, государь-батюшка, да больно плохъ хозяинъ, дорогихъ гостей встрѣчать не умѣетъ.
Пріѣхавшій пристально вглядѣлся въ Степана Егоровича; какая-то неуловимая улыбка мелькнула на красномъ, когда-то видно красивомъ, но теперь уже обрюзгшемъ лицѣ его. И Степанъ Егоровичъ взглянулъ на него, но тотчасъ-же отвелъ глаза свои въ сторону.
«Это Фирска, это тотъ самый злодѣй, который жжетъ, грабитъ и вѣшаетъ… значитъ, теперь уже скоро»…
Между тѣмъ старикашка «полковникъ» наклонился къ Фирскѣ и шепталъ ему:
— Тутъ невелика пожива, вѣдь, я говорилъ — бѣднякъ онъ какъ есть, дѣтей народилъ на удивленье всей губерніи, двадцать два человѣка. Развѣ что твоей милости, али изъ насъ кому, дѣвчонки его приглянутся, ну, такъ можно будетъ забрать съ собой, а съ нимъ и толковать нечего, коли что, такъ вздернуть, и вся недолга.
Фирска повелъ на полковника своими большими, воспаленными глазами.
— Это тамъ видно будетъ, — сказалъ онъ:- я самъ съ нимъ потолкую, а нашимъ кому бы на деревню идти, кому тутъ остаться, да въ погребахъ пошарить, можетъ, что хмѣльное и найдется; только чуръ, безъ моего приказа и вѣдома никого не обижать и не трогать. Самъ учиню и судъ и расправу! Веди меня въ домъ, да и хозяина за мною.
Скоро въ маленькомъ покойчикѣ Степана Егоровича, передъ столомъ, на которомъ уже красовалась закуска и водка, неизвѣстно откуда добытыя, сидѣлъ Фирска, а передъ нимъ стоялъ приведенный двумя мужиками Кильдѣевъ.
— Развяжите ему руки, — приказалъ Фирска:- да ступайте, я самъ съ него допросъ сниму.
Совсѣмъ почти безчувственное состояніе нашло на Степана Егоровича; онъ ясно видѣлъ все и всѣхъ, только какъ-то пересталъ соображать. Когда его развязали и оставили одного съ Фирской, онъ почти упалъ на стулъ, опустилъ голову и остался неподвижнымъ. Фирска приперъ дверь, подошелъ къ нему и грубымъ, нѣсколько охрипшимъ голосомъ повторилъ вопросъ старикашки: